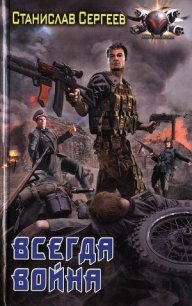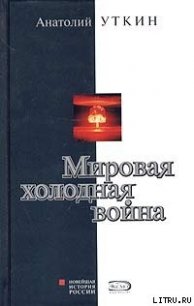В борьбе за Белую Россию. Холодная гражданская война - Окулов Андрей Владимирович (книги читать бесплатно без регистрации .txt) 📗
Вечером, перед тем как получить свой литр похлебки, запускают в уборную. Там — корыто для умывания. Вместо умывания, как скот, — опускаешься и пьешь, пьешь из этого корыта — организм был совершенно обезвожен. Даже плюнуть на измазанные глиной руки было нечем: вокруг рта — белая соль.
Пытка продолжалась и днем, и ночью. Из нар были изъяты все доски и все матрасы, вместо этого была протянута сетка из двухмиллиметровой проволоки. Утром — синие полосы по всему телу. Поперечная доска у головы и ног. Вместо подушки под голову клали свои колодки. Если среди ночи со второго яруса эти колодки падали на спящего внизу, то сцена, разыгрывавшаяся среди голодных озлобленных людей, была неописуемой…
Утром врывались капо с палками и устраивали «подъем». Несколько раз в неделю читался рапорт. Если кто-то во время конвоирования на место работы сорвал колосок или травинку — это считалось «покушением на немецкую собственность». Наказание за такое «воровство» — двадцать пять или пятьдесят «горячих». Палачом был высокий, метр девяносто, белорус. Растягивали «вора» на табуретке, снимали штаны, один человек садился на голову и держал ноги. Били резиновой палкой, с «оттяжкой». Кожа лопалась после первого удара. Это было даже слышно. Самый сильный человек в нашем лагере выдержал семнадцать ударов, потом потерял сознание. Если приговор был пятьдесят ударов, то в один день вы получали только двадцать пять, остальные — когда раны заживут. Считалось везением, если ни один удар не попадал по почкам.
— Сколько вы провели в этом лагере?
— Максимальный срок пребывания там был восемь недель: эсэсовские врачи считали, что дольше выжить невозможно. Меня вытащили из лагеря для дальнейших допросов на половине этого срока. Допросы начинались с вопросов об НТС. Потом — пять минут передышки. Потом в машинку вставлялся новый лист бумага, и следовали вопросы о НОРС.
После нескольких допросов следователь, не добившись ничего, послал меня в концлагерь Заксенхаузен, в изолятор смертников. Я до сих пор не знаю: был ли я приговорен к смертной казни?
Пятьдесят дней провел в группе приговоренных, из которых каждый день кого-то выбирали и вешали на наших глазах. Люди из СД, когда подходили к нашей группе для «отбора», любили поиздеваться. Говорили: «Выходи!» Потом: «Я пошутил, возвращайся!»
Все — с красной полосной смертников. Все друг другу исповедовались. Мы многое знали из того, чего не говорили на допросах.
Стоишь во время «отбора» и думаешь: «Слава богу, что не меня!» А йотом становится стыдно за эти мысли…
В Заксенхаузене я встретился с очень интересными людьми. В первую очередь — с полковником Бушмановым, из РОА. С Косаревичем-Косаренко — идеологом Бандеры. Был там Караим — один из лучших фальшивомонетчиков. Когда немцы арестовали его, заставили подделывать американские доллары и английские фунты. Фунты он подделал столь блестяще, что англичанам во время войны пришлось проводить обмен денег на фунты нового образца: немцы запускали фальшивки через нейтральные страны. Сидел там и мэр Кельна — социал-демократ. Были немецкие офицеры с рыцарскими крестами, арестованные за какую-то мелочь.
Один советский капитан дважды бежал из лагерей военнопленных и был приговорен за это к смертной казни. Когда подошла его очередь, он сказал: «У меня нет никакого оружия. Но я им покажу, как русские умеют умирать!» К виселице он пошел парадным шагом.
Повешение у немцев отличалось от того, как вешали конокрадов в восемнадцатом веке, когда человек падает с высоты в несколько метров и сразу ломает себе шею. Немцы выбивали из-под ног узника табуретку, и мы видели, как человек десять — пятнадцать минут мучается в петле, тщетно борясь за жизнь. Такое не забывается.
— Когда вы оттуда вышли и каким образом?
— За мной пришли и перевели в тюрьму на Александерплац — для перекрестных допросов. Запасное Исполнительное бюро уже было арестовано: Ольгский, Околович…
Из лагеря меня забрал Ротцолль, обманув, что везет в Берлин, чтобы освободить, — боялся, что я вздумаю бежать. А привез меня на мою же квартиру и провел там второй обыск, во время которого нашел фотоаппарат. Тут я вспомнил, что многое успел подчистить, но про пленку забыл. Ведь кроме союзной деятельности я еще помогал «остовцам» бежать и подделывал для них бумаги. Я научился делать печати при помощи картошки, желатина, но фотографии нужны были настоящие — они и были на вставленной в фотоаппарат пленке. Если ее проявят — новые допросы.
Тут я его спрашиваю: «У вас сын есть?» Он говорит: «Да, приблизительно вашего возраста, моряк». — «Могу я сделать ему подарок? Зачем фотоаппарат будет валяться на складе? Вашему сыну может пригодиться. Я сейчас вам покажу, как его заряжать». С этими словами я вытянул ленту и засветил ее.
Он все понял, но виду не подал — все же я сделал ему какое-то одолжение.
Допросы после этого лучше не стали. На Александерплац я сидел в одиночке несколько месяцев. В начале 1945 года, когда немцы отступили из Франции, Бельгии, части Голландии и Польши, большинство своих узников в этих странах они расстреливали, а самых главных брали с собой при отступлении — на всякий случай, для возможного обмена. В один прекрасный день в мою камеру поместили премьер-министра Греции, а меня перевели в другую, где уже сидело семь человек.
Вот однажды в камеру заходит полицейский. Полиция там была городская — гестапо занимало лишь одно крыло здания, и своей тюрьмы у него не было — своих заключенных держали в общей. Этот старый полицейский, явно из деревни, читал плохо. Видит русскую фамилию и смотрит на возраст, прочесть ее уже не может. Тычет в меня пальцем: «Ты кто?» — «Я — русский». — «Тогда — пошли». Приводит меня в канцелярию, фельдфебель, продолжая разговаривать по телефону, спрашивает — что надо? Полицейский отвечает: «Привел, кого просили». Тот, продолжая разговаривать, требует, чтобы я продиктовал свою фамилию. Поняв ситуацию, я назвал фамилию того, кто сидел в этой камере до меня и был освобожден. Он одной рукой выписал мне бумажку, и я по ней вышел на волю «за того парня».
Три дня прожил в Берлине. Карточек получить не мог — в документах значилось, что я — «остовец» и должен жить в лагере.
На третий день пришел к Ротцоллю и сказал, что раз уж я на свободе, то должен получить бумагу на свое имя. Он ответил, что ничего об этом не знает, а мое освобождение — ошибка. «Но все равно все катится к чертям, поэтому бумаги я тебе дам, а ты сиди в Берлине и не рыпайся». Он выписал мне две бумажки — для работы и для продовольственных карточек. Пока выходил в соседнюю комнату ставить печать, я еще одну необходимую бумажку засунул себе в карман. Таким образом, я в нужном месте показывал нужную бумажку — до сих пор они, все три, у меня хранятся.
Пятого марта 1945 года я выехал из Берлина с заданием от генералов Меандрова и Трухина — установить контакт с союзниками. Я, с капитаном Лапиным, 21 апреля перешел фронт — просто засели в одном селе у города Нордлинген и дождались, пока фронт через него перекатился. Мы прямо явились к союзникам и заявили, что у нас — задание попасть к Эйзенхауэру. Нас перевозили из батальона — в полк, из полка — в 7-ю армию. В контрразведке 7-й армии мы осветили четыре пункта, предложенные руководством армии Власова — основу переговоров. Главное: не считать «остовцев», военнопленных и власовцев врагами и не выдавать их Советам. Если бы американцы согласились на эти условия, меня должны были забросить с парашютом в районе расположения штаба РОА и договориться о встрече руководства КОПР с американцами. Но этого не случилось. Война закончилась, и из парламентеров мы превратились в военнопленных.
Нас поместили в лагерь, где американцы содержали самых значительных лиц немецкой армии, правительства, партии, научного мира. Забавно было мне, молодому русскому, слышать от пожилого немецкого фельдмаршала: «Скажите, почему мы проиграли войну?»
— Когда вас освободили из этого лагеря?
— 23 июля 1946 года. Меня не освободили — меня везли на выдачу Советам. Майор, который вез, спросил: «О чем задумался?» Я рассказал ему, что я — из первой эмиграции. Сказал, что войну выиграла не власть, а русский народ. Он остановил машину, пошел куда-то позвонить, вернулся и отвез меня в лагерь для перемещенных лиц.