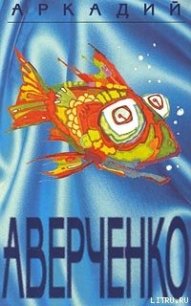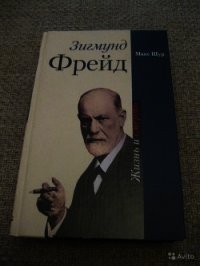Человек перед лицом смерти - Арьес Филипп (читаем книги онлайн TXT) 📗
Avaritia — это непомерная любовь к миру. Она больше, чем грех, внушающий стыд и угрызения совести. Avaritia есть odium Dei, «ненависть к Богу», подталкивающая зачерствевшую в заблуждениях душу к прямому союзу с дьяволом. Впавшие в это искушение — те же одержимые. Беллармин различает два аспекта «ненависти к Богу», два лика одного и того же порока. Один из них — это ведовство: ведьмы убеждены, что будут пользоваться в потустороннем мире небывалым могуществом, исходящим от Сатаны, и потому с таким упорством и гордыней, с такой самонадеянностью ведут себя во время пыток и казни; к тому же, как хорошо известно всем инквизиторам, дьявол делает ведьм и колдунов нечувствительными к физической боли, дабы они не покаялись. Другое проявление «ненависти к Богу» — avaritia.
Таким образом, место мира крайностей, эксцессивного поведения, где чередуются равно неумеренные любовь к земной жизни и ее благам и отречение от них, занимает мир, где должна царить умеренность. В этом новом мире смерть уже не обладает прежней исключительной властью, чтобы все ставить под вопрос одним своим появлением. Смерть также подчинена здесь общему закону меры.
Последнее следствие изучаемого нами явления — появление новой модели благой смерти, прекрасной и поучительной. Эта модель приходит на смену той, которую средневековые artes moriendi помещали в комнату умирающего, наполненную соперничеством сил неба и ада, воспоминаниями жизни и дьявольскими наваждениями. Смерть в новой модели — смерть праведника, который мало думает о собственной физической смерти, когда она наступает, но зато думает о ней всю предшествующую жизнь. В этой смерти нет ни волнения, ни драматизма, которыми полны artes moriendi «второго Средневековья». Со смертью Роланда или крестьян у Лафонтена и Толстого ее сближают спокойствие и публичность — вспомним, что драма смертного часа в позднесредневековых artes moriendi разворачивается в узком кругу друзей, столпившихся вокруг постели умирающего.
Несколько конкретных примеров новой модели поведения и восприятия приводит в своей книге А.Тененти. Особенно характерен рассказ о благой смерти в письме Франческо Барбары к своей дочери (1447 г.). Умирающая — святая женщина «во цвете лет», то есть очень молодая. Чудовищная болезнь приковала ее к постели, покрыла язвами, истощила. Но страдалица свои муки приносит в жертву Богу, «который сражает нас, чтобы нас спасти, и убивает нас, чтобы мы не умерли». Как только, благодаря традиционному предупреждению, она чувствует, что умирает, то, причастившись, встает с постели и преклоняет колени на голом полу. Такое поведение умирающего было, по-видимому, неизвестно в средние века: умирающий лежал в то время распростершись на кровати или на носилках, в позе «лежащего». Здесь, напротив, он принимает положение «молящегося», которое, как мы помним, пришло на смену прежней позе «лежащего». Удивительно это стремление умирающего воспроизвести позу умершего, приобрести сходство с умершим, но с умершим блаженной смертью праведника! Беллармин в своем трактате также рекомендует эту позу, но считает себя обязанным сделать смягчающую поправку: Бог сам, пишет он, часто посылает умирающим чудесную силу, позволяющую им совершить этот последний жест благочестия. В искусстве Позднего Средневековья и Нового времени было весьма распространено изображение Святой Девы, в момент своей кончины также стоящей на коленях.
Молодая женщина, о которой пишет Барбара своей дочери, была тогда «так истощена, что, хотя еще живая, она казалась уже охваченной смертью, была невероятно обезображена, она, бывшая в свое время столь прекрасной, столь величественной! И вот как только она опочила в Господе, бледность и напряжение изгладились с ее лица. Черты ее утратили жесткость, отталкивающий вид, и лик ее преисполнился благородной красоты и величавого достоинства. Столь прекрасная, с уже не искаженными чертами, она казалась не мертвой, а спящей». Итак, мы снова, уже в среде ученых и склонных к рационализму гуманистов, возвращаемся к традиционной модели «лежащего», спящего вечным сном блаженства и покоя.
Новым здесь является подчеркивание красоты, несказанной гармонии черт, наступившей после финальных судорог агонии. Явление посмертной красоты лика объединяется в этом рассказе с другими сверхъестественными проявлениями святости, наблюдаемыми на теле святой после ее смерти: разверстые язвы мгновенно зажили, рубцы исчезли и вместо смрада гниения распространился тончайший аромат, наполнивший каждого в доме и за его пределами восторгом и умилением. В своем письме рассказчик объясняет происшедшее триумфом чистой души над угнетенным телом. Покойная жила «в вере, почти не во плоти». Отсюда и чудесное преображение ее тела после смерти. «Как если бы благородство ее души облачило его одеянием красоты». Чем ближе к нашим временам, тем меньше такое превращение будет восприниматься как нечто чудесное и исключительное, свойственное лишь святым. Сколько раз еще сегодня мы говорим, глядя- на дорогого нашему сердцу умершего, банальные, но все же утешительные слова: «Он словно спит».
Смерть прекрасная и поучительная, конец жизни праведной и святой, напоминает еще традиционную прирученную смерть, принимаемую с доверием и покорностью. Но эта новая смерть не лишена некоторой театральности, по которой знатоки сразу узнают наступивший век барокко. Этот элемент театральности, до конца XVIII в. еще сдержанной, перерастет в большую риторику смерти, столь характерную для европейского романтизма.
Устраняя тревогу момента физической смерти, новая концепция могла иметь и другое следствие, менее благоприятное для религиозного благочестия. Был риск вообще предать забвению метафизический смысл смертности человека и тем способствовать безразличию или даже неверию. Именно это и случилось. Примеров тому довольно много, хотя было бы неверно видеть именно здесь истоки необратимой эволюции в сторону атеизма или научного отрицания бессмертия души и загробного мира.
Когда Эразм занемог, он увидел в своей почечной болезни или в падении с лошади знак Провидения, призыв к размышлению о смерти и спасении души. Джованни Баттиста Джелли, сочинения которого исследовал А.Тененти, в аналогичных обстоятельствах реагировал по-другому. Он не поверил в предупреждение и гордился этим: «Я помню, что у меня была болезнь, приведшая меня к вратам загробного мира, и я никоим образом не думал, что умру. Я только насмехался, когда меня хотели заставить исповедаться. Если бы я тогда умер, я так и ушел бы, не думая об этом и без всякой печали». Уйти в неведении, забыть о существовании смерти — что же может быть лучше! В этом-то и есть превосходство животного над человеком. Джелли рассказывает, что на острове Киркеи Одиссей спросил одного из своих спутников, обращенных волшебницей в свиней, почему он не хочет вновь стать человеком. Тот ответил, что великое несчастье человека состоит в знании смерти, страхе перед ней и в ощущении быстротечности времени. У животных же нет ни знания, ни страха, ни этого ощущения. Так что лучшие мгновения в жизни человека те, когда он не сознает бега времени, как, например, во сне.
Нетрудно заметить у Джелли большой скептицизм в отношении потустороннего мира и спасения бессмертной души. Для него вся христианская религия состоит лишь в любви к ближнему[236]. Человек эпохи Просвещения— так рано? Подобные идеи могли бы показаться уникальными, анахроничными и недостаточно репрезентативными, если бы их существование уже в XVI в. не подтверждалось свидетельством Беллармина, который не стал бы придавать им столь большого значения как угрозе для христианского вероучения, когда бы речь шла об отдельных исключениях. Беллармин передает историю о некоем регенте коллегиума, которого смерть похитила в тот момент, когда он перестал верить в Троицу. Вскоре он явился в видении одному из своих друзей, «весь в огне», дабы предостеречь его.
Но наиболее интересно личное свидетельство Беллармина. Его самого как-то позвали к изголовью одного умиравшего адвоката, который сказал ему «невозмутимо и без всякого страха»: «Сударь, я желал с вами говорить, но не ради себя, а из-за жены и детей. Ибо я иду прямо в ад, и нет ничего, что вы могли бы для меня сделать». И он сказал это со спокойным видом, «словно говорил о поездке в свое поместье или замок». Беллармин признает, что был изумлен этой холодной уверенностью. Он ставит этого адвоката рядом с людьми, изобличенными в ведовстве и проявившими такое же упорство в заблуждениях.