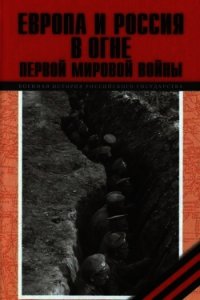Забытая трагедия. Россия в первой мировой войне - Уткин Анатолий Иванович (е книги TXT) 📗
Но социалистам ничего уже не нужно было объяснять — они увидели в действиях лидера кадетов измену их справедливой и прекрасной позиции. В результате созванная социалистами массовая демонстрация политически убила последнего подлинного друга Запада в правительстве России. Социалистические министры — реализм в сторону — Керенский и его соратники, закрыв глаза, начали опираться на химеры. Они верили, что можно гнать солдат на смерть, одновременно призывая и врагов и союзников (и Берлин, и Париж — Лондон) к социальному обновлению, немотивированному альтруизму и многому другому, никому кроме социалистов не самоочевидному. Призывы ко всем народам взять свою судьбу в свои руки (оглашенные задолго до Ленина) уже были попыткой примирить непримиримое — внутреннюю и внешнюю политику противоположного направления.
В России сталкиваются две точки зрения, два восприятия целей текущей войны. Старая известная политическая фигура, олицетворение русского либерализма — Милюков — призывает руководствоваться незыблемыми геополитическими реалиями и довести войну до победного конца, который заодно будет означать и торжество в Европе демократии. Новая политическая фигура — Керенский (товарищ председателя Совета рабочих и солдатских депутатов и министр Временного правительства) — в вопросе о целях войны вынужден больше учитывать позицию Совета. Разумеется, Запад на стороне Милюкова. Запад верит, что сходную с его взглядами позицию занимает армия и вся патриотическая Россия. При этом Запад (Палеолог) попросту стучится в открытую дверь, когда оказывает давление на Милюкова: «У вас более десяти миллионов человек под ружьем; вы пользуетесь поддержкой восьми союзников, из которых большинство пострадало гораздо больше вас, но при этом полны решимости бороться до полной победы. К вам прибывает девятый союзник, и какой?! Америка! Эта ужасная война была начата за славянское дело. Франция поспешила вам на помощь, ни на миг не торгуясь из-за своей поддержки. Неужели вы осмелитесь первыми оставить борьбу!» {378}.
Если оценивать ситуацию с внутренней точки зрения, то Временное правительство было обязано заключить перемирие с Центральными державами не далее как весной 1917 г.
В конечном счете исторический союз России с Западом, как это ни парадоксально звучит, можно было спасти, только отступив от этого союза в начале апреля 1917 г. (когда вступление в войну Америки практически лишило Германию шансов на победу). Петроград, возможно, смог бы «купить» согласие Запада, обязав немцев не выводить войска с Востока. Тогда в правительстве России оставались бы лидеры, настроенные прозападно. Их отказ от Стамбула, от Лондонского соглашения 1915 г. мог бы показать серьезность (и неизбежность) их маневрирования. Но живая артерия между Россией и Западом в этом случае перерезана не была бы.
Западников мог спасти если не мир на фронте, то отказ от активных операций. Лишенная же национальных целей бойня деморализовала самый важный элемент общества — многие миллионы солдат, вчерашних мужиков — новоиспеченных граждан России, обученных убивать. Если политики Временного правительства решились раскачивать лодку России в бушующем океане войны, то они должны были трезво оценить направление своего движения. К сожалению, лучшие сторонники союза России с Западом встали на путь самоубийства, решив, что Россия согласится одновременно признать фальшь прежних идеалов, сохранив желание за них умирать.
Уже первые слова Временного правительства были декларациями великих принципов, но никак не планом создать новую Россию — лучше царской. Провозглашалась великая демократия («самая свободная в мире страна» и прочая чепуха), но не было ни слова о том, как решить гигантские экономические, социальные, этнические проблемы, как трансформировать общество. Столь говорливые российские политики становились немыми истуканами, когда нужно было решить хотя бы одно конкретное дело. Полным поражением Запада в России было принятие в мае 1917 г. новым Временным правительством формулы «Мир без аннексий и контрибуций на основе национального самоопределения». Приняв этот лозунг и обещая одновременно наступление на фронте, группа Милюкова обрекла вместе с собою и дело Запада на европейском Востоке.
Милюков мог страстно утверждать в своих превосходных исторических книгах и ярких политических речах, что «Россия есть тоже Европа», но уже в первые дни февральской революции он признал, что начавшаяся революция уникальна и неуправляема. (Строго говоря, с этих дней и до конца своей жизни Милюков только и делал, что убеждал своих читателей и слушателей в том, что «Россия — не совсем Европа»). Разумеется, опасность «бесплодного метания между самоуверенным почвенничеством и рабской зависимостью от западных идей» грозит каждому, кому небезразлична судьба России. Но столь быстрое отрезвление — случай, воистину, уникальный. Убедительное объяснение краха либерализма в России дает англичанин Р. Чаркес: «Российский либерализм, стоявший за полную парламентскую демократию в империи, где более трех четвертей населения были неграмотны и жили на протяжении столетий в условиях ничем не сдерживаемого абсолютизма, был обречен на неминуемое поражение» {379}.
Когда Керенский говорит в мемуарах о «национальном самосознании» русского народа, которое якобы предало себя накануне финального боя, он находится в плену собственных представлений. Разумеется, Запад, торопя и Милюкова и Керенского, поступал неразумно. Посол Палеолог стал впоследствии академиком — его книги талантливы, но трудно не сделать вывод, что он проиграл главную битву своей жизни, не сориентировался в русской ситуации весны-лета 1917 г., продолжая со слепым упорством толкать шаткое русское правительство в бой, в поражение, в пропасть. Впрочем, его и Бьюкенена можно понять: Людендорф готовил последний бой на Западе, и все средства казались им хороши, лишь бы русские отвлекали максимум германских дивизий. И все же Запад должен был быть проницательнее, не становиться жертвой первого же внутреннего импульса. Лишь 20 лет спустя Ллойд Джордж признал в мемуарах, что стал жертвой поверхностного анализа. В Америке лишь спустя 40 с лишним лет Дж. Кеннан признал, что западные дипломаты и политики замкнули себя в круг военной необходимости и не смогли подняться над повседневностью, увидеть опасное для Запада состояние своего несчастливого союзника {380}.
Керенский виделся Бьюкенену единственным министром, личность которого, хотя и не вполне симпатичная, заключала в себе нечто, останавливающее внимание. В качестве оратора он обладал гипнотической силой, завораживающей аудиторию, стремящейся внушить слушателям патриотический пыл. Однако строй его мыслей отличался от прежних патриотических построений. Защищая продолжение войны до конца, он, в пику Милюкову, отвергал всякую мысль о грядущих завоеваниях. Прежние «отцы отечества», такие как Милюков с Гучковым, говорили о приобретении Константинополя как об основной цели России в войне — заведомо обреченное занятие. Война лишалась даже отдаленного умозрительного смысла для миллионов солдат и офицеров. Керенский искал новый смысл: «Свободная Россия в свободной Европе» и т.п. Британский посол пришел к заключению, что Керенский, при всех его особенностях и слабостях, более адекватно отражает настроения и нужды России. Он желал «сделать войну общенациональным усилием, как в Англии и Франции» {381} . Его главным достоинством казалось то, что он «единственный человек, от которого мы могли ожидать, что он сумеет удержать Россию в войне».
Палеолог признавал, что Керенский обладает магнетическими свойствами и красноречив, и довольно быстро попал под его обаяние. «Его речи, даже самые импровизированные, замечательны богатством языка, движением идей, ритмом фраз, широтой периодов, лиризмом метафор, блестящим бряцанием слов. И какое разнообразие тона! Какая гибкость позы и выражения. Он поочередно надменен и прост, льстив и запальчив, повелителен и ласков, сердечен и саркастичен, насмешлив и вдохновенен, ясен и мрачен, тривиален и торжественен. Он играет на всех струнах; его виртуозность располагает всеми силами и всеми ухищрениями» {382} . Это была оценка оратора. Но как политик Керенский представлял собой для Палеолога новую формацию русских лидеров, главная нелестная характеристика которых заключалась в меньшей надежности.