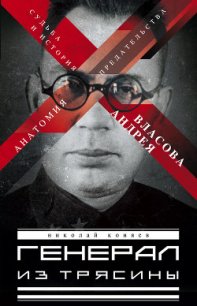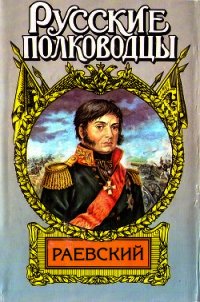Генерал Корнилов - Кузьмин Николай Павлович (е книги TXT) 📗
Он, Савинков, сноб, эстет, джентльмен в безукоризненном костюме, был, в сущности, тем же палачом. Самовлюбленный, близорукий, если только не слепой, всю жизнь позволявший пользоваться собой, как… как… да нет, лучше не надо, тут вполне употребительны самые непристойные сравнения.
Савинков всегда гордился тем, что, занимаясь кровавым делом, постоянно «держал себя на высоте»: одет безукоризненно, даже изысканно, никакой вульгарности, по-джентльменски вежлив и предупредителен, а если иногда и допускал циничные суждения, то принимался говорить сквозь зубь1, цедить, как нечто неприятное, но необходимое, презрительно приспуская при этом свои припухлые веки, известные во всех охранных сводках, как самая неистребимая его примета. Основное же, что составляло его особенную гордость, что, в сущности, толкнуло его к писательству, к сочинению романов, была потребность мыслить: философствовать, выстраивать сложные умственные конструкции, так полно проявившиеся в его прославленных романах.
В отличие от соратников по организации Савинков был прилично образован по истории, поэтому все, что сейчас видели его зоркие циничные глаза, все, с чем ему приходилось повседневно сталкиваться в Петрограде, вызывало в нем возрастающее раздражение и глухой протест.
Никогда – он это особенно фиксировал, – никогда в России русский человек не видел еврея у власти, у кормила пусть небольшого, но управления. Это было золотым российским правилом, з а к о н о м: не допускать еврея не только, скажем, до кресла губернатора, но даже самого ничтожного чиновника почтового ведомства. На всех, буквально на всех без исключения, этажах государственной власти Россия себя оберегала от еврея. Тем поразительней было наблюдать совершенно переменившуюся картину после царского отречения. Повсюду, куда ни глянь, мелькала смуглая ликующая рожица. Русский человек, свалив романовский трон, вдруг с изумлением узрел это ничтожное племя у себя в державе в роли, как желчно заключал Савинков своим писательским умом, и всемогущего судьи, и скорого безжалостного палача.
Само собой, он знал, читал и в свое время достаточно иронизировал по поводу появившихся в начале века «Протоколов сионских мудрецов». Теперь же волей-неволей приходилось запоздало хлопать себя по лбу: что за черт, с какой же, однако, вещей прозорливостью неведомый сочинитель изготовил эту, с позволения сказать, фальшивку? Ведь хочешь не хочешь, а что ни строчка «Протоколов», то исполненное пророчество!
И как горьки, как желчны были предельно откровенные рассуждения террориста и сочинителя! А чем ему оставалось заниматься, если установившийся режим столь пренебрежительно обрекал его на полную бездеятельность? [2]
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их – служить тебе… чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся».
«И истребишь все народы, которые Господь Бог твой, дает тебе. Да не пощадит их глаз твой!»
Поднимавший голову сионизм решительно был взят в России на вооружение.
Как легко было среди таких работать гадине Азефу! Здесь Борис Викторович касался самого болезненного и, признаться, самого сокровенного, о чем он ни за что не решился бы откровенничать даже с самым близким человеком. Это было его собственное страшное открытие, ударившее вдруг ему в сознание, как результат всех напряженных невеселых размышлений.
Совсем недавно кто-то из заслуженных товарищей с безупречной репутацией высказал горький и покаянный упрек: как же можно было столько лет терпеть Азефа? Достаточно лишь глянуть на его жирную рыжую физиономию с этими вечно мокрыми, вывороченными губищами похотливого пакостника!
Да, какое-то всеобщее ослепление, общее помрачение рассудка…
Однако, будучи теперь безжалостным к своему прошлому, Савинков задумывался вот над чем: а сумела бы Боевая организация эсеров добиться столь потрясающих успехов, не находись во главе ее Азеф? И отвечал: да ни за что на свете! Прихлопнули бы разом! Выходило таким образом, что весь их героизм, все бесстрашие и самопожертвование с усмешечкой планировались и велись охранкой. С ними играли, с ними забавлялись, заставляли их стрелять, колоть кинжалами, метать бомбы, а затем упрятывали в казематы, на рассвете выводили к виселице на тюремный двор и отдавали в руки палача.
Скольких же сдал Азеф по мере того, как террористы исполняли свои роли жертвенных козлов? Много, очень много. Кстати, он мог поступить таким же образом и с ним, Савинковым. Однако не сдавал, берег и сохранял, ибо он был ему еще нужен, необходим. Но это значит, что генералы из охранки, лукавые и многомудрые, позволяли ему, Савинкову, геройствовать и завоевывать свою отчаянную славу, как бы весело и незаметно подсаживая его начальственной рукой на высокий пьедестал.
Да, было отчего заскрежетать зубами!
Пестрый, невообразимо разномастный и разнокалиберный мир европейской эмиграции Савинков знал довольно хорошо. Самодержавие выбрасывало в мансарды и на панели зарубежья своих самых неукротимых и изобретательных противников. Не желая связываться, пачкать расправой рук, царский режим отказывал своим врагам в пристанище, обрекая их на голодное и озлобленное прозябание на чужбине. Там они суетились, ссорились друг с другом по теоретическим вопросам, постоянно интриговали и завидовали, одновременно жадно улавливая всякие новости с родины и всякий раз связывая их с надеждами на перемены в собственной судьбе. Как человек, связанный с непосредственным конкретным делом, Борис Викторович насмешливо наблюдал за ними и, откровенно говоря, не мог побороть в себе брезгливости. В те годы он был всецело увлечен боевой деятельностью. В отличие от этих дрябнувших, стареющих болтунов он собственными глазами видел результаты своей неукротимой энергии. Это давало ему повседневное ощущение молодецкой мускулистости, сформи-ровало его энергичную походку, манеру одеваться, говорить, повелевать, выработало его знаменитую маску рокового, страшного мужчины с нездоровыми, припухшими веками – как бы от постоянных тайных слез.
Его надменное, словно заплаканное лицо неотразимо действовало на женщин. Он это превосходно знал и много раз в этом убеждался.
Савинков почитался и товарищами, и генералами охранки заслуженным боевиком. Такой опыт не снисходит сам собой, его приобретают долгими годами риска, дерзким заигрыванием со смертью. Постоянная угроза петли палача на страшном оселке оттачивает взгляд на окружающих, и Борис Викторович имел все основания полагать, что уж в чем, в чем, но в людях он научился разбираться основательно…
Существовал еще один вид практики, который постоянно пополнял его знания человеческой натуры: частые, почти повседневные отношения с женщинами. Теперь Борис Викторович взял за обыкновение судить о тех, с кем его сталкивала судьба, через «женское стеклышко». Здесь он никогда не ошибался, ибо в этом отношении его опыт, пожалуй, превосходил опыт боевого террориста.
Получив свою первую ссылку в Вологду, Борис Викторович оказался там вместе с Хаимовым (он же Луначарский), невыразимо вертлявым, навязчивым болтуном, готовым извергать свой «словесный понос» по любому поводу. Луначарский умело поставил себя среди разношерстной ссыльной братии. К приезду Савинкова он уже прослыл якобы фундаментально образованным и – шутки в сторону! – обладавшим дворянским происхождением. Разобраться как в первом, так и во втором было недолго. Образованность Луначарского объяснялась крепкой памятью на энциклопедические словари, остальное добавлялось самым разнузданным краснобайством, а насчет происхождения Савинков не заблуждался с первой же минуты знакомства. «Дворянин? Интересно, где вы видели столбового дворянина с таким выразительным потным носом? Да и глаза… Глаз, батенька, не подделаешь, глаза выдадут любого».
2
Окончательное прозрение Савинкова состоялось при его аресте в Минске, в 1925 году. Чекистами Дзержинского с большим искусством была осуществлена сложная многоходовая комбинация, имевшая целью заманить знаменитого террориста на советскую территорию. Его схватили нетерпеливо, на первых же шагах… Примечательно, что, когда к нему ворвались и крикнули: «Сидеть на месте! Руки на стол!» – он сохранил свое неистребимое самообладание, изобразил улыбку и процедил сквозь зубы: «Ничего не скажешь, чистая работа!»
Однако ему еще предстояли утомительные допросы в подвалах Лубянки, затем суд и приговор – там он избавился от последних иллюзий.