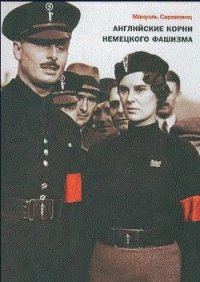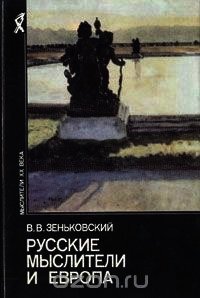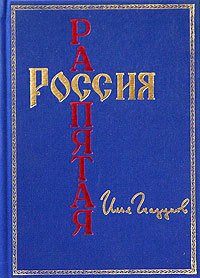Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (читать книги онлайн без .txt) 📗
У Толстого, о чьих взглядах на религию не раз говорилось, что они скорее буддийские, нежели христианские (такого мнения придерживались, например, Соловьев и Бердяев), мы обнаруживаем недвусмысленное соединение русского мессианизма с мессианскими же надеждами на Азию. Если, писал Толстой, русский народ отречется от своего призвания, то задача направлять человечество на путь освобождения от подмены силы божественной человеческой силой перейдет к другим, более счастливым, восточным народам. По мнению Толстого, роль восточных народов Китая, Персии, Турции, Индии, России состоит в том, чтобы указать миру истинный путь к свободе — в смысле вечных законов человеческой жизни. И эту свободу, которую почти безвозвратно потеряли народы Запада, призваны осуществить восточные народы {1063}. «В Индии… высокоодаренный… духовными… силами народ находится во власти… людей, стоявших в религиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех, над которыми они властвуют» {1064}.
Конечно, в толстовских представлениях о миссии Востока явственно присутствует квиетистский мотив: так, он предупреждал, что если Китай силой прогонит западных империалистов, он поставит себя на один уровень с «западными варварами» {1065}. Тем более примечательно, что для осуждения европейского колониального господства в Азии Толстой нашел слова, которые вполне могли бы украсить любой советский призыв, обращенный к угнетенным народам: «Между вами совершают сейчас величайшие злодейства вооруженные люди, называющие себя христианами. Не верьте им: люди эти не христиане, а шайка ужасных разбойников, не переставая грабивших и… мучающих… девять десятых населения в Европе и Америке, и теперь желающих вас ограбить, покорить, а главное, развратить, потому что без развращения… эта небольшая шайка… не могла бы властвовать над миллионами» {1066}.
Если для Толстого симпатия к народам Востока была связана, в частности, с его отказом от церковного исповедания христианства (благодаря чему устранялось «конфессиональное препятствие» [119]), то в иных случаях именно позитивное отношение к Азии оказывалось результатом мистических поисков (также во многом расходившихся с «формальным», церковным христианством). Об этом свидетельствуют тезисы князя Ухтомского, убежденного монархиста.
Эспер Ухтомский принадлежал к ближайшему окружению Николая Второго и сопровождал его (в то время еще наследника престола) в путешествии по странам Востока [120]. Несмотря на то, что взгляды князя сформировались под влиянием окружения Каткова, в своем антиевропеизме он зашел в конце концов настолько далеко, что, по существу, полностью солидаризировался с тезисом о родственной близости России и Азии, который был высказан и Толстым. (Характерно, что до тех пор подобные утверждения исходили исключительно от врагов России [121]; даже крайние славянофилы и панслависты решительно их отвергали.)
Еще в 1904 году Ухтомский писал, что панмонголизм не следует рассматривать как угрозу для России, ибо идея всемирной империи, унаследованная от древности и средневековья — во всех ее традиционных разновидностях, включая и те, что свойственны монгольским и вообще азиатским народам, — стала достоянием России (которая восприняла ее в борьбе с монгольским господством) {1067}. По мнению Ухтомского, Англия, в противоположность России, стремилась лишь к эксплуатации азиатских народов. В 1900 году он противопоставил угнетение индийцев и, в частности, пристрастность судопроизводства в Британской Индии по отношению к неевропейцам, равенству народов Российской империи перед законом {1068}. Исчезновение коллективистских традиций Китая в условиях безжалостной борьбы за существование — таков результат империалистического господства Великобритании — Ухтомский считал значительно более важным событием, чем все неполадки российского управления в Азии {1069}. «Политический урожай» в Азии давно поспел — и России остается только собрать его. В 1904 году Ухтомский сформулировал эту мысль еще более отчетливо: среди трудолюбивых народных масс желтого мира уже исполнены социальные идеалы высшего порядка, которые еще долго будут неисполнимы на Западе [122] {1070}. Согласно Ухтомскому, «весь Восток» потенциально представляет собой такую же органическую составную часть «Державы Мономаха» (т. е., собственно, Российской империи, если понимать последнюю в духе византийской концепции универсального государства), какой уже — «силою вещей» — сделалась Сибирь. Потому-то единственно возможной границей российских владений в Азии было, по мнению Ухтомского, омывающее континент синее море {1071}.
Такие претензии на господство в Азии Ухтомский объяснял органическим сходством между Россией, с ее идеей империи, и Азией; в особенности же между старым Московским государством и Индией (а также Китаем) [123]. Эту органическую близость Ухтомский противопоставлял «холодности» и отчужденности Запада по отношению к странам и народам Востока.
В течение многих лет англичане исследовали восточные культуры и, в частности, индийскую, — тому свидетельством бесчисленные научные труды. Душа индийца осталась, однако, закрыта для англосаксонского ума. И если символом британского отношения к Индии стала фигура сипая, привязанного к жерлу пушки, то у России была иная цель: установить с народами Азии подлинно братские отношения {1072}. Во время боксерского восстания Ухтомский (правда, без сколько-нибудь ощутимых последствий в сфере реальной политики) выступал за союз России и Китая {1073}. Успешная экспансия России в Азии должна основываться не на одной лишь военной силе, но также на скрытой силе симпатии. Именно последняя обусловила, по мнению князя, стремление русской души видеть в каждом разумном существе, без различия веры и происхождения, своего младшего брата, равноправного перед Богом и царем [124].
Ступени перехода от русских владений к Китаю, писал Ухтомский, так малозаметны, что их даже невозможно выразить: на Дону, т. е. в центре России, есть «казаки»-буддисты, родственные кочевым монголам Центральной Азии; на реке Маныч можно встретить буддийских монахов, одеждой не отличающихся от монахов Тибета. Поэтому восточнорусские поселенцы обнаруживают, что мир, открывающийся перед ними, не только не чужд и не враждебен, но хорошо знаком им с детских лет {1074}. Там, в неведомой Азии, продолжал Ухтомский, народы испокон века чувствовали колебания мистической тоски по тем неземным высотам веры и молитвы, где перед лицом Божественных стихий (!) должны успокоиться всякое зло и интернациональная ненависть. Великой тишиной веет из бывших когда-то врагами стран; там Шакьямуни кротко смотрит на толпы молящихся с алтарей, на которых приносятся бескровные жертвы. Как родственны чувства и молитвы, исходящие от этих народных толп, тем, что спят в глубинах русской души! Запад сформировал русский дух, но как бледно и слабо отражается он на поверхности жизни; в недрах русской национальной жизни все проникнуто убеждениями Востока, там все дышит тоской по высшим формам жизни и проникнуто далеко идущими и либеральными (!) желаниями, источник которых — человеческая любовь, и которые совершенно чужды понятиям среднего европейца, насквозь отравленным материализмом, — писал Ухтомский. Разве невозможно точнее определить эту общность между азиатской мистикой, самым совершенным выражением которой является буддизм, и духом русского народа? Почему Азия инстинктивно чувствует в России часть того духовного мира, который называется Востоком? — спрашивал Ухтомский {1075}.