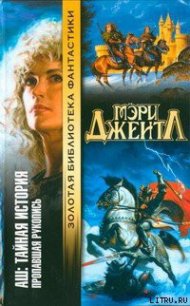Мой Карфаген обязан быть разрушен - Новодворская Валерия Ильинична (библиотека электронных книг txt) 📗
Бунин написал «Окаянные дни». Но не только дни были окаянные. Люди тоже были окаянные, причем как те, кто насиловал, так и те, кого насиловали. Наш любимый Алексей Константинович Толстой напишет в предисловии к «Князю Серебряному», что когда он читал хроники времен царя Ивана Грозного, у него перо выпадало из рук от негодования, и не потому, что Иван Четвертый много свирепствовал, а потому, что возможно было общество, которое терпело то, что делал Иван Четвертый.
Когда читаешь «Архипелаг Гулаг», из рук у тебя все падает от негодования не на ВЧК, не на большевиков, а на то, что возможно было общество (оно и сейчас никуда не делось), которое терпело это без сопротивления и без негодования. Находился же кто-то (и не один), кто все это позволял с собой делать.
Лекция № 12. Свободу не подарят, свободу нужно взять
Россия досталась большевикам, как падаль достается стервятникам.
Причем в этой ситуации невозможно сострадание, невозможно сочувствие, и невозможно определить, где добро, а где зло. В чем заключается больше добра, в падали или в стервятнике? Это очень сложно определить. Они сосуществуют. Это некий симбиоз. Стервятник питается падалью. Падаль ему полезна. А падали уже все равно. И вот, по видимому, где-то в 1921 году России стало все равно. Всякое сопротивление, организованное и неорганизованное, прекратилось. Оно прекратилось даже там, где оно могло бы еще продолжаться: в глухих урочищах Сибири, на заимках.
Большевики были гениальными негодяями, поскольку их очень хорошо подковал их лидер, который действительно был гением. (А еще говорят, что гений и злодейство две вещи несовместные. Очень даже совместные…). Они употребили очень простую технологию, которую надо запомнить на будущее всем, кто собирается заниматься политикой, потому что политика — это занятие шкурническое, и в принципе политикой могут заниматься только прохвосты. Порядочные люди в России заниматься политикой пока не могут.
Да и в мире в принципе порядочные люди политикой не занимаются. Политика — это занятие для непорядочных людей. Она исключает порядочность как установку. Она обязательно включает в себя ложь, корысть, предательство. Без этих трех составляющих не обходится никакая политика. Конечно, мы можем сравнить нашу безнравственную политику с нравственной политикой цивилизованных западных государств, и окажется, что, безусловно, безнравственности там меньше. Но кто скажет, что ее там вообще нет, посмотрев, как цивилизованные страны предали Гонконг, как во имя инвестиций и ресурсов предают китайских политзаключенных? В принципе, скоро могут сдать и Тайвань. То, что происходит в мире вокруг Китая, происходит не только по вине господина Примакова, но и по вине госсекретаря Соединенных Штатов, ведь пока экономической блокады КНР нет ни со стороны западных держав, ни со стороны держав восточных. Когда с Китаем и со всеми коммунистическими государствами будут разорваны дипломатические отношения (и не только с маленькими и слабыми странами типа Кубы и Северной Кореи, но и с большими, сильными, типа КНР), тогда можно будет сказать, что в мире завелась какая-то нравственность в политике. Пока этого нет, считайте политику абсолютно безнравственным занятием.
Большевики употребили следующие роскошные технологии, рекомендуемые всем политикам. Они расправились со всеми поодиночке. Начали они, разумеется, с правых партий. Партий типа октябристов, прогрессистов, кадетов. Пока они расправлялись с правыми партиями, партии более левые, типа правых эсеров, спокойно сидели в Учредительном собрании и пели «Интернационал». Они считали, что до них не дойдет, и что можно абстрагироваться от того, что происходит с правыми партиями, что жизнь — это как бы не для всех, а только для некоторых.
Прекрасно! Большевики разобрались с правыми партиями и занялись левыми. Покончили с левыми партиями, вне своей единственной и неповторимой, которая, кстати, довольно спокойно смотрела (хотя в начале там была некая оппозиция и даже некие фракции), как расправляются с анархистами и с левыми эсерами. С анархистами расправились очень рано. Большевики поняли, что традиция Дикого поля, которая была очень сильно выражена у анархистов, у махновцев, — это опасная традиция. Хотя в первых большевиках тоже жила традиция Дикого поля, у них она умножалась на ордынскую и на византийскую традиции. А у анархистов и махновцев была чистая традиция Дикого поля, плюс еще славянская традиция. Что это означало? Это означало, что они опасны. Потому что традиция Дикого поля — это храбрость и самоотверженность. Она предполагает, что ее носителя будет невозможно согнуть, поработить и поставить на колени. А зачем большевикам были нужны такие граждане их будущей Совдепии, которых нельзя поставить на колени, даже если они исповедуют левые убеждения? Поэтому, хотя многие не могут понять, не было ли ошибкой со стороны большевиков то, что они уничтожили махновцев, и не разумнее ли им было на них опереться, они все делали правильно. Они уничтожали традицию Дикого поля. Они уничтожали храбрость, самоотверженность, доблесть, мужество. Они все это уничтожили.
С анархистами они стали разбираться чуточку позже, чем с кадетами. Они понимали, что скандинавская традиция, которую несли кадеты, была никак не опаснее, чем традиция Дикого поля, которая жила в левых эсерах. Их уничтожали вместе. Практически в те же 1918-1919 гг.
Разобравшись со всем этим, большевики приступили к внутренней оппозиции. И здесь опять — та же технология. Казалось бы, эти самые большевики могли бы кое-что предвидеть, глядя, что произошло с другими партиями. Но они ничему не научились. Сначала Бухарин аплодировал, глядя на то, как убирали Зиновьева, Каменева и Троцкого, потом убрали и его, и все пошло по той безумной спирали, которая лучше всего представлена у Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте». Вчерашний подследственный завтра встречает на этапе не только тех, кто от него отрекался и предлагал ему положить на стол партбилет, но и своих следователей! Это был закономерный итог. Глупость всегда так кончается. Это естественный финал. И в принципе подобное поведение лежит вне гуманитарных категорий, оно вне сострадания и сочувствия.
Дальше у нас идут социальные страты. Прежде всего убирали крупных предпринимателей, так называемых деревенских капиталистов, ростовщиков, то есть финансовый капитал. И тех, кого могли назвать латифундистами, то есть тех, кого в России именовали помещиками.
Все другие страты общества не только не протестовали, но жизнерадостно делили наследство. Они были безумно счастливы. Они считали, что сейчас наступит социальная справедливость, и начнется социальный мир.
Дальше большевики просто выкидывают циничные лозунги. Владимир Ильич был на редкость откровенным человеком, он ничего не скрывал, он слишком хорошо знал страну, в которой ему приходилось действовать. Он ее презирал. Высшая откровенность ленинских трудов соответствует только одной идее — презрению. Человек, который в меньшей степени презирает свою страну, поостерегся бы говорить столь откровенно.
Откровеннейший лозунг звучал так: сейчас мы с крепким средним крестьянством и с деревенской беднотой идем против кулаков. Их никто не защитил. Это уже 30-е годы, это раскулачивание. Естественно, туда попали и те, у кого было две коровы и одна коза. Издержки производства. Но в принципе середняки не протестовали, когда большевики добрались до так называемых кулаков (просто до тех, кто был несколько удачливее других в своем хозяйстве). Почему этого не происходило? Почему не было протеста? Вервь, община, мир. Мир остался прежним. Крестьянская община плавно перешла в колхозы без особого сопротивления, за исключением сопротивления тех, кто при Столыпине выделился из общины, тех, кто, действительно, мог стать фермером, то есть немногих свободных людей.
Вервь и община были страшно завистливы, они давили, они усредняли. Им ненавистно было все, что поднимается, что богаче, что умнее, что сильнее, что выделяется из ряда вон. Поэтому они даже испытывали чувство облегчения, видя, что нашлась некая сила, которая убирает для них ненавистное социальное неравенство.