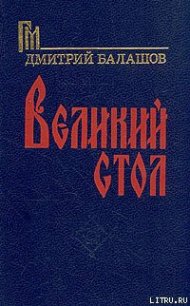Симеон Гордый - Балашов Дмитрий Михайлович (бесплатная регистрация книга .TXT) 📗
Темная фигура в полосатом халате, пугающе недвижная, видится ей, наконец, рядом с большою кадью для воды, вытащенной в задние сени праздника ради.
– Ты, княжич? – спрашивает она громким срывающимся шепотом, пугаясь собственного голоса, и – промолчи он еще – готова закричать: «Спасите!» – ринуть назад, в тепло и светлоту хором. Но он отвечает тем же хриплым, трепещущим шепотом, видно, и сам весь дрожит, как она.
– Это я, Иван… Ваня… Прости меня. Я хотел… Это все Андрейка… Я хотел… Я… люблю тебя, Шура! – отчаянно решается он наконец. – Давно люблю, с первого погляда ищо!
Она молчит, низит глаза, голову. Наконец, когда уже молчание становится нестерпимым, шепчет едва различимо, одними губами:
– Знаю. Уведала сама!
Он смотрит – уже привык к темноте, – и крутая вельяминовская стать девушки, ее выписной лик, и очи, озорные и строгие в одно и то же время, чуть-чуть мерцающие в темноте, начинают дурманом кружить ему голову. Он делает шаг, другой… Откинувши шаль с лица, жарко дышит, с готовною жаждой протянув в темноту трепещущие руки.
– Не надо! – вздрогнув, угадав его движение, возражает она и, почти в голос, кричит: – Не смей!
Иван замирает на месте, с протянутыми руками, с отчаянием от своей робости и волшебной, небывалой еще близости девушки.
– Шура! – говорит он, и в голосе, надрывно ломающемся, звучит отчаянный упрек. – Шура… – повторяет он, опуская руки, и, не зная, что еще больше сказать, повторяет тихо: – Люблю тебя!
Он чует с отчаянием, что все упадает во прах, что брат зря старался для него, что неземное видение сейчас исчезнет, вильнув подолом, и ему останет с соромом выбираться из сеней, натыкаясь на слуг, а там и верно – хоть в омут головою! Она, и вправду, делает легкое движение, словно собираясь уйти, и тут его прорывает. Он горячо бормочет, сбиваясь к путаясь, восхваляя всеми известными ему песенными и книжными украсами ее красоту, обещает любить до самого гроба, и даже после могилы, и не отступить ни перед чем, чтобы добиться у старшего брата ее руки:
– Я не ведаю своей судьбы, не знаю, что пошлет мне Господь в жизни сей! Быть может, даже вышнюю власть в черед за братом. Но и там, на вершине, на самой выси стола владимирского, ты будешь одна для меня на всю жизнь, на все веки, на всех путях моих и во всех помышлениях, яко звезда путеводная в ночи египетской, яко солнечный свет, яко перст судьбы, яко господень зрак над землею!
– Омманывашь, князь… – шепчет она, дурманно закидывая голову, а он приближается, приближается… И вот жаркое дыхание на ее лице, выписной, почти девичий, загадочный в темноте молодой лик… Иван наклоняется к ней, кладет руки на плечи, и – холодные упругие губы девушки прижимаются к его жадным устам.
– Пусти… – с отчаяньем шепчет она в забытьи. – Пусти же!
– Шу-у-у-ра! – доносит издалека голос сенной боярыни. «Верно, маменька послала искать!» – спохватывается она, и – вовремя. Еще бы немного, и вовсе закружилась голова. Она вырывается из тесных объятий князя, скользнув вдоль стены, исчезает, хлопая дверью. Он стоит, опоминаясь, сожидая, пока кровь, прихлынувшая к голове, успокоится хоть немного, чтобы можно было невестимо выйти на люди. Потом, осторожно приотворяя двери, выскальзывает в темноту перехода. Ряженые еще пляшут, еще гремит терем у него за спиной. А он бежит, бежит вниз по ступеням и, опустив шаль на лицо, проталкивается сквозь дворовую толпу к воротам. В нем все ликует и дрожит, он хочет пасть в снег и начать кататься с хохотом и рыданьями. Он еще ничего не понимает, не чует, не соображает и не мыслит о том, как же ему повести дело к сватовству. Он готов куда-то бежать, метаться, прыгать – у него ничего похожего не было с тою, мгновенно позабытою им первой женой, от нее осталось только одно лишь ясное знание того, что должно произойти после свадьбы, да мужская, разбуженная недолгою семейною жизнью тоска по ночам. Он сейчас, как впервые влюбившийся отрок, вспоминает и представляет себе юное тело девушки, ее запах, ее холодные губы, едва шевельнувшиеся в ответ на его жаркий поцелуй, ее тугие и нежные плечи, за которые он держал свою любовь только что, и тайный сумрак холодных сеней, и тайну долгожданного свиданья. Теперь он жарко благодарит Андрея, толкнувшего его на этот отчаянный шаг, и, остановясь под высокими звездами, у стены собора, подняв лицо ввысь, молит Господа сотворить так, чтобы старший брат не воспротивил его любви.
Глава 50
Анастасия-Айгуста, скрываясь от мужа, болела уже давно. Семен не мог знать, что у жены одна из тех неясных даже и ныне женских болезней, обрекающих на выкидыши и бесплодие, которые в ту пору чаще всего трактовались как «порча» или «наговор», от которого женщина начинала «сохнуть» и умирала, несмотря на все заклятия и молебны, ежели не находилось какого-нибудь исключительного травника или травницы («ведуна», по-старому), умеющего излечивать эту болесть.
Увы! Знание трав и лечения ими почти никогда и нигде не преподавалось как строгая наука, не закреплялось в ученых книгах, сохраняясь и передаваясь почти только изустно, от ведуна к ведуну, и потому ниточка великих целительных знаний, протянутая через тысячелетия, постоянно рвалась за смертью, неумением или просто недостатком таланта у очередного народного знахаря.
Воротясь из Ростова, Симеон застал Анастасию уже очень плохой. Она лежала тихая и смиренная (слегла сразу же после Святок) и ежели вставала с трудом, то только чтобы в очередной раз принять мастеров-иконописцев, которые сейчас, под руководством своего старейшины Гойтана, учились мастерству и тайнам ремесла у греческих изографов, приведенных Феогностом.
Семен, увидя Настасью столь похудевшей и изменившейся, перепал не на шутку. Прежняя, нет-нет да и являвшаяся у него мысль о желанной смерти жены теперь, когда «это» подошло вплотную к их супружескому ложу, совсем не являлась ему в голову. Он хлопотал, судорожно добывая то армянского врача, то заволжскую знахарку, то старцев и стариц, прославленных многими исцелениями, заказал молебен со службою во здравие болящей. Все было напрасно, и он это видел сам, и Настасья знала, что умирает, ничуть не обманывая себя.
Она лежала, когда ее оставляли в покое, вспоминая слова родного, уже полузабытого литовского языка, вспоминала родичей, которых любила давным-давно, почему-то упорнее всех Кейстута, который сейчас, наверное, стал важный и медлительный, а прежде подкидывал ее, маленькую, на руках. Думала о его жене, Бируте, литвинке, жрице огня, прославленной, как говорили, мудростью и чистотой (она никогда ее не видела), думала и умилялась, даже до слез, хотя сама была и оставалась христианкою. Но брак этот представлялся ей как нечто чудесное, что бывает только в сказаниях и легендах и чего не было у нее самой – все-таки не было! – хотя князя Семена она продолжала любить. Она лежала и шептала про себя слова литовской колыбельной песенки, которую поют сыну в люльке, сыну, которого она так и не сумела родить! Или, быть может, сумела бы, ежели ей не покидать Литвы, ее синих озер и рек, ее голубых хлебов и влажного, густого и полного ветра с Варяжского моря?
Умерла Настасья одиннадцатого марта, в полном сознании, успев и причаститься и посхимиться. Супруга за день до того призвала к себе на последний погляд:
– Ты меня не любишь! – говорила она в рассеянном забытьи, держа Симеона за руки. – Ничего. Там ты меня полюбишь снова!
Помолчав, прибавила:
– Женишься, может быть, будут детки… – Опустив ресницы, на которых, точно мелкий бисер, проблеснули редкие слезинки, тихо попросила: – Не забывай обо мне, Семен! И церкву… чтобы моим серебром… я хочу так… Словно бы я сама!
Он был жесток. Он хотел этого. Хотел освобождения от неродимой жены, от тоски вечного взаимного непонимания (а она меж тем понимала его много лучше, чем он сам себя понимал, хоть ей всегда и не хватало слов, чтобы выразить это). Но теперь к нему зримо приблизилась пустота. Пустота освобождения от обязанностей и долга, без чего – без обязанностей и долга – не может жить и оставаться человеком человек. И он сидел, оглушенный надвинувшеюся нежданною пустотой, и плакал. Крупные слезы, стекая по щекам, падали ему на колени…