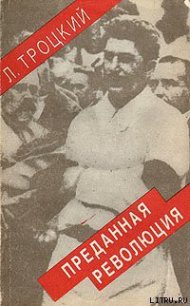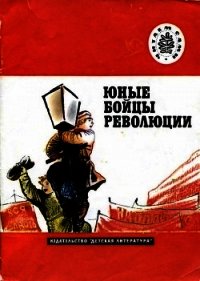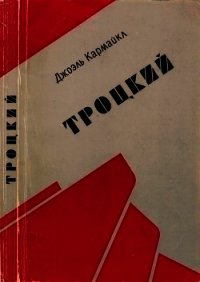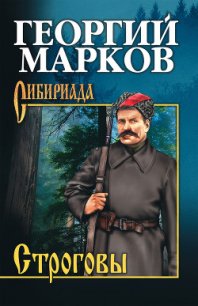Октябрь (История одной революции) - Гончаренко Екатерина "Редактор" (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации txt) 📗
«Психология этого места — вот что ужасно, — сказал он, встав и начав расхаживать по камере. — Мы не знаем, что произойдет. Каждая минута может стать последней. Лично я не боюсь. Я не думаю, что они причинят мне боль. Но другие напуганы. Каждый час они ожидают резню. Мне не хватает духу рассказать об этом жене. Я говорю ей, что с нами все в порядке. Но это страшно напрягает».
Я посетила другие камеры. Я поговорила с одним социал-демократом — человеком, который боролся за свободу России и был известным экономистом. Он резко осуждал большевиков: «Возвращайтесь в Америку и расскажите им, что здесь происходит. Расскажите американским социалистам, что большевики бросили их товарищей-социалистов в тюрьмы. Девять раз я сидел в тюрьме при старом режиме, а после революции я побывал за решеткой десять раз. Выбирать не из чего. И царь, и большевики — диктаторы. Тут нет демократии».
После этой вспышки он начал нервно ходить по камере. Его глаза выглядели испуганными. Он повторил слова министра финансов: «Неопределенность — вот что страшно. Лично я не боюсь. Они не осмелятся причинить мне боль. Но другие — они напуганы. Они раскисли. Каждый день они ожидают, что их выстроят в ряд и расстреляют. Это невыносимо».
В каждой камере повторялось одно и то же. Нездоровое беспокойство, а затем роковые слова: «Я страшусь не за себя, а за других. Они напуганы».
Недоверие заключенных вызывало недоверие у охранников. Каждая из сторон медленно катилась к катастрофе.
В дополнение к одиночным камерам тут были две больших общих. В них сидели армейские офицеры. Мне показали эти комнаты. Мужчины курили и играли в карты. Здесь напряжение было меньше. Его ослабило дружеское общение. В одной комнате русский генерал поднялся и обратился ко мне. Он говорил по-французски.
«Итак, мадам, — сказал он. — Что же Вы думаете о России? Что вы думаете о стране, которая бросает в тюрьму своих офицеров? Я думаю, что такое невозможно в Америке?»
Мужчины столпились вокруг, чтобы услышать мой ответ.
«Нет, — ответила я, улыбаясь. — Тем не менее, Америка сажает в тюрьму людей. Она сажает мужчин, которые отказываются воевать».
Тут последовал восторженный смех, и генерал продолжил: «Здесь, как Вы видите, все по-другому. Мы в тюрьме за то, что хотели воевать. Нашим странам нужно провести обмен заключенными».
Даже большевики поняли шутку и присоединились к общему смеху. Разумеется, это был перевернутый мир.
Когда мы повернулись, чтобы уйти, моя переводчица беседовала с охранником. Он был груб, толкал генералов и хлопал дверью.
«Я надеюсь, — сказала она, — что Вы хорошо обращаетесь с заключенными. Вспомните, как Вы сами сидели в тюрьме и на что это было похоже».
Человек опустил голову. Он был как большой ребенок. «Я забываю, — сказал он, — и становлюсь ужасен».
В этом маленьком инциденте кроется истина. Власть рождает тиранов. Ни один человек не должен иметь бесконтрольной власти над своими собратьями. И если бы не было веры в возмездие и наказание, жизнь была бы совсем ужасна.
В. П. Павлов (из воспоминаний о тюрьме «Кресты»).
На прогулках Пуришкевич вел себя вызывающе, и когда московцы спрашивали: «Где, где Пуришкевич?» — он, запуская руки в карманы, кричал: «Вот, смотрите, Пуришкевич. Ослы». Многие из них неоднократно просили меня о том, чтобы я разрешил им пырнуть его ножом. Мне больших трудов всегда стоило их уговорить. В особенности московцев привлекали громадные фигуры Хвостова и Щегловитова. Московцы не могли удержаться от того, чтобы, поравнявшись с одним из них, не сделать «выпад» (т. е. взять «на руку» и, согнув одну ногу в колене под острым углом, а другую совершенно прямо — описать я не могу, — делали обыкновенно, как колют при обучении в чучело). С этими действительно была большая история: солдаты приходили целыми ватагами из караула и умоляли, чтобы я разрешил хоть одного пырнуть. «Хоть немного», — выражались. Только мой аргумент, что их все равно будут отправлять в «расход», удерживал их от этого. «Ну, а „играть“ все-таки будем», — предупреждали они. После истории с Кокошкиным и Шингаревым атмосфера в «Крестах» с караулом стала совершенно невозможная: меня как красногвардейцы, так и московцы все время предупреждали, что, «если ты будешь предпринимать какие-либо меры к защите министров-капиталистов и старых министров, то мы тебя убьем вместе с ними. Всех надо их убить, — кричали московцы, — какого черта их кормить!» И действительно, солдаты сходили со своих постов и ходили по хирургическому бараку примечать министров. «Зачем вы туда ходите, товарищи?» — спрашивал я их. — «Чтобы не обмануться на случай», — отвечали они. Если бы не были приняты своевременно меры Ревкомом, выразившиеся в смене московцев латышами, то весьма возможно, что солдаты перепороли бы штыками их всех.
Всего примерно 250 заключенных были брошены в тюрьму после падения Зимнего дворца. Юнкера, арестованные во время столкновений в офицерских училищах, на телефонной станции и во время многочисленных рукопашных боев, которые захватили город 29 октября, были отправлены в Петропавловскую и Кронштадтскую крепости. Этот приток существенно сократил запасы еды, хранившиеся в крепостях, где после Февральской революции среди заключенных было лишь несколько представителей царского режима. (Многие большевики, сидевшие в тюрьме после июльских событий, были освобождены Октябрьской революцией.)
Кроме одной камеры, которая нам показалась переполненной, мы доложили, что камеры «сухие, чистые, теплые, просторные, сравнительно хорошо вентилируемые, оборудованные современными санитарными принадлежностями и в целом находятся в гораздо лучшем состоянии, чем большинство американских тюрем, которые были нам известны».
На самом деле запасы продовольствия оказались скудными, но почти все заключенные сказали, что в настоящее время у них нет жалоб на еду или условия. В одной камере юнкера захотели поговорить с нами без присутствия конвоира, и тот удалился. И тогда мы выслушали рассказ об их ужасных переживаниях, когда их доставляли в крепость через толпу, жаждавшую мщения. Когда они прибыли в крепость, на дворе их окружила неистовствовавшая толпа, к ней присоединились и некоторые их конвоиры, желавшие поставить их к стенке и расстрелять, «однако решительные действия комиссара и большинство охранников помешали этому». Два офицера, в том числе адъютант коменданта, подтвердили это и добавили, что некоторые напуганные юнкера попытались удрать, несмотря на предупреждения стражников. Последовали выстрелы, три человека были убиты, а четвертый — тяжело ранен. Когда об этом было доложено в Смольный, Ленин лично вмешался и приказал принять «более действенные меры» для охраны заключенных, в том числе министров, от насилия.
Вид юнкеров, жевавших конфеты из коробок, присланных им друзьями и родственниками, убедил нас в том, что они не страдали от страшных тягот, которые виделись думским господам.
В конце ноября разразились «винные погромы» (разграбление винных подвалов), начавшиеся с разгрома погребов Зимнего дворца. Улицы наполнялись пьяными солдатами… Во всем этом была видна рука контрреволюционеров, распространявших по всем полкам планы города, на которых были отмечены винные склады. Комиссары Смольного выбивались из сил, уговаривая и убеждая, но таким путем не удалось прекратить беспорядки, за которыми последовали ожесточенные схватки между солдатами и красногвардейцами… Наконец, Военно-революционный комитет разослал несколько рот матросов с пулеметами. Матросы открыли безжалостную стрельбу по погромщикам и многих убили. После этого особые комиссии согласно приказу отправились по всем винным погребам, разбивая бутылки топорами или взрывая эти погреба динамитом…
30 ноября.
Сутки на улицах стрельба пачками. «Комиссары» решили уничтожать винные склады. Это выродилось в их громление. Половину разобьют и выльют — половину разграбят: частью на месте перепиваются, частью с собой несут. Посылают отряд — вокруг него тотчас пьяная, зверская толпа гарнизы, и кто в кого палит — уж не разобрать. Около 6-ти часов, когда мы возвращались домой, громили на Знаменской: стрельба непрерывная…