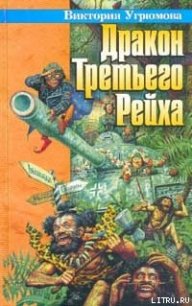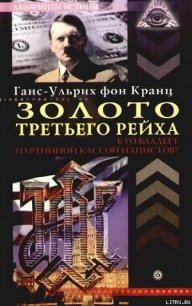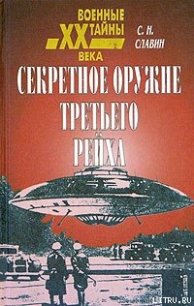LTI. Язык третьего рейха. Записная книжка филолога - Клемперер Виктор (читать книги без сокращений .TXT) 📗
Когда дошла очередь до Грюнбаума, проводить его прах собралось особенно много людей. Когда мы вслед за урной шли из зала к месту погребения, мой сосед прошептал: «Как называется должность, которую советник коммерции в Кротошине не смог получить? Шамес [180], так? Я никогда не забуду эту историю, которую рассказал бедный Грюнбаум!» И он вытверживал в такт ходьбе: «Шамес в Кротошине, шамес в Кротошине».
Нацисты в своей расовой доктрине выдвинули понятие «нордификация». Я не компетентен судить, удалась ли им эта нордификация. Но евреизации расовая доктрина уж точно способствовала, даже среди тех, кто этому сопротивлялся. Человек уже просто не мог снять еврейские очки, сквозь них смотрели на все события, на все новости, на все читаемые книги. Вот только очки эти не всегда были одни и те же. Вначале, причем довольно долго, они окрашивали все предметы в розовый цвет надежды. «Не так уж все плохо!» Как часто приходилось мне слышать эту утешительную фразу, когда я слишком всерьез и без всяких надежд воспринимал сводки о победах и сообщения о числе взятых в плен солдат противника! Но затем, когда нацистам в самом деле стало худо, когда они уже не могли скрывать свои поражения, когда союзники стали приближаться к немецким границам, а потом и перешли их, когда вражеские бомбардировщики разносили вдребезги город за городом (разве что Дрезден, казалось, щадили), – именно тогда евреи сменили стекла в своих очках. Последним событием, на которое они еще смотрели сквозь старые стекла, было падение Муссолини. Но когда, тем не менее, война не кончилась, их уверенность была сломлена и обратилась в свою полную противоположность. Они уже больше не верили в близкое окончание войны, они снова – вопреки всякой действительности – признавали наличие у фюрера магических сил, более магических, чем его заколебавшиеся сторонники.
Мы сидели в еврейском бомбоубежище нашего «еврейского дома» (там было и особое арийское бомбоубежище); дело было незадолго до дрезденской катастрофы. Мы отсиживали воздушную тревогу, скорее скучая и замерзая, чем сжавшись от страха. Ведь по опыту нам особо ничего не угрожало, наверняка налет был нацелен на многострадальный Берлин. Настроение у нас было не такое подавленное, как долгое время до этого; днем моя жена слушала передачу из Лондона у надежных арийских друзей, кроме того, и это самое важное, она услышала последнюю речь Томаса Манна, речь, дышавшую уверенностью в победе, по-человечески прекрасную речь. Вообще-то проповедями нас не заманишь, они, как правило, действуют угнетающе, – но эта речь и в самом деле поднимала дух.
Мне хотелось немного поделиться хорошим настроением с моими товарищами по несчастью, я подходил то к одной, то к другой группе: «Вы уже слышали сегодняшнюю сводку? Знаете ли вы о последней речи Манна?» Ответ везде был отрицательный. Одни боялись, что их втянут в запрещенные разговоры: «Оставьте это при себе, мне не хотелось бы загреметь в лагерь». Другие, как Штайниц, возражали с горечью: «Даже если русские подойдут к Берлину, война все равно еще продлится долгие годы, а все остальное – это просто истерический оптимизм!»
Много лет мы делили в своем кругу людей на оптимистов и пессимистов, как на две расы. На вопрос: что он за человек? – отвечали либо «он – оптимист», либо «он пессимист», а это среди евреев, разумеется, означало: «Гитлер скоро падет» и «Гитлер утвердится». Сейчас же остались только пессимисты. Фрау Штайниц пошла даже дальше своего мужа: «Да хоть бы они и взяли Берлин, ничего от этого не изменится. Война-то продолжится в Верхней Баварии. Года три еще как минимум. А для нас это все одно, что три года, что шесть лет. Мы все равно не доживем. Разбейте же, наконец, ваши старые еврейские очки!»
Через три месяца от Гитлера остался только труп, война кончилась. Но чета Штайниц, в самом деле, не дожила до этого, как и некоторые другие из тех, кто сидел тогда в еврейском бомбоубежище. Они лежат под руинами города.
XXVIII
Язык победителя
Ежедневно это было для меня ударом в лицо, хуже, чем обращение на «ты» и ругань в гестапо, ни разу я не выступил с протестом или поучением против этого, никогда это чувство не притуплялось, ни разу я не нашел среди своих «лабрюйеровских характеров» хоть одного, кто избежал бы этого позора.
У тебя действительно было дисциплинированное мышление, ты в самом деле была честной, до страсти заинтересованной в своем предмете германисткой, бедняжка Эльза Глаубер, настоящая ассистентка твоего профессора, помощница и наставница его студентов в семинаре; а когда ты потом вышла замуж и пошли дети, ты осталась все тем же филологом и борцом за чистоту языка, учительницей – может быть, даже слишком; злые языки называли тебя за твоей спиной «господин тайный советник».
Мне ты так долго помогала своей прекрасной, таким забавным образом сохраненной библиотекой классиков! Ведь евреи – если им вообще разрешалось держать книги, – могли иметь у себя только еврейские книги, а госпожа «тайный советник» так любила собрание своих немецких классиков в прекраснейших изданиях. Вот уже дюжина лет прошла с тех пор, как она оставила сферу высшей школы и сделалась женой коммерсанта, человека высокой культуры, на которого сейчас гестапо взвалило пренеприятную должность старосты еврейской общины и который стал ответственным, беспомощным и преследуемым с обеих сторон посредником между палачами и их жертвами. Теперь под руководством Эльзы ее дети читали бесценные книги. Как же удалось ей спасти это сокровище от гестапо, не прекращавшего обыски? Очень простым и нравственным способом! С помощью совестливости и честности. Если редактора какого-нибудь тома звали Рихард М. Майер, то Эльза Глаубер снимала с инициала М. покров тайны и ставила вместо него имя Моисей; в другом случае она обращала внимание проводивших обыск сотрудников гестапо на еврейскую национальность германиста Пниовера [181] или же просвещала их относительно настоящей фамилии знаменитого Гундольфа [182] – еврейской фамилии Гундельфингер. Среди германистов было столько неарийцев, что под защитой этих редакторов сочинения Гёте и Шиллера, да и многих других писателей, превращались в «еврейские книги».
Библиотека Эльзы сохранила и свой порядок и свой объем, ибо просторная вилла старосты была объявлена «еврейским домом», и хотя в результате этого семья вынуждена была ограничиваться меньшим числом комнат, чем прежде, тем не менее они жили у себя дома. Я мог свободно пользоваться «еврейскими классиками», а с Эльзой мы могли вести серьезные беседы на профессиональные темы, что приносило известное утешение.
Разумеется, говорили мы много и о нашей отчаянной ситуации. Я бы затруднился сказать, что преобладало в Эльзе – любовь еврейки к своей нации или патриотизм немки. Оба образа мысли и чувствования обострялись под давлением обстоятельств. Патетика легко вторгалась даже в самые прозаические бытовые разговоры. Эльза часто рассказывала, как она старается, чтобы ее дети росли в настоящей еврейской вере, но чтобы они одновременно дышали верой в Германию – она говорила всегда: в «вечную Германию», – несмотря на весь сегодняшний позор страны. «Они должны научиться думать, как я, должны читать Гёте, как Библию, они должны быть фанатическими немцами!»
Вот он, удар в лицо. «Кем они должны стать, фрау Эльза?» – «Фанатическими немцами, такими, как я. Только фанатическое германство в состоянии смыть грязь с теперешнего негерманства». – «Вы понимаете, что говорите? Разве вам неизвестно, что понятия „фанатический“ и „немецкий“ – я имею в виду ваше понятие „немецкий“ – сочетаются так же, как кулак и глаз, что, что…» – и я с некоторым ожесточением, отрывочно и непоследовательно, разумеется, но тем горячее, выложил ей все, что записал здесь в главе «Фанатический». В конце я сказал ей: «Разве вы не знаете, что говорите на языке нашего смертельного врага, признавая тем самым свое поражение, свою сдачу на милость победителя, а значит, предаете именно ваше германство? Если вам это неизвестно, вам, столько проучившейся, вам, горой стоящей за вечное, не запятнанное ничем германство, – то кто может это почувствовать, кто может избежать этого? То, что мы, зажатые и изолированные, порождаем особый язык, что и мы тоже вынуждены использовать официальные, для нас же придуманные выражения из нацистского лексикона, что у нас часто проскальзывают обороты, вышедшие из идиша или древнееврейского, – все это естественно. Но подчинение языку победителя, такого победителя!»…
180
Шамес – служка в синагоге.
181
Отон Зигфрид Пниовер (1859 – ?) – немецкий литературовед-германист.
182
Фридрих Гундольф (1880–1931) – поэт, историк литературы, профессор Гейдельбергского университета. Одним из его учеников был Геббельс.