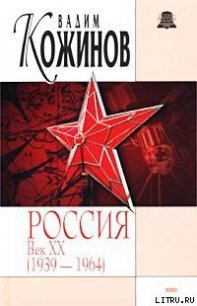Победы и беды России - Кожинов Вадим Валерьянович (книги регистрация онлайн бесплатно .TXT) 📗
Поскольку всем со школьных лет внушали, что герои гоголевской поэмы прямо-таки ужасны, это утверждение об отсутствии у них пороков представится по меньшей мере странным. Но об этом мы еще поговорим; начать же следует с другой проблемы. Гоголь с глубоким убеждением писал, что «один только Пушкин» смог определить «главное существо» его как писателя, сказав о следующем: «…еще ни у одного писателя не было этого дара выставить так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».
Впрочем, эта глубокая пушкинская мысль нуждается в особом пояснении, ибо в течение XIX века значение слов «пошлость» и «пошлый» принципиально изменилось. «Пошлый» стало означать «низкий», «ничтожный» или «надоевший», «избитый». Между тем когда-то это производное от «ходить», «пошло» слово употреблялось в значении «обыкновенный», «простой» (а также «старинный», «прежний»). Иван Грозный, возмущенный тем, что английская королева Елизавета, не имея всей полноты власти, не может добиться соблюдения заключенных с ним договоров, писал ей в своем послании 1567 года: «И мы чаяли того, что ты на своем государьстве государыня… А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица» (то есть «обыкновенная», «простая»).
Слово «пошлый» сохраняло свое исконное значение еще в первой половине XIX века; чтобы полностью убедиться в этом, достаточно вчитаться во все случаи употребления этого слова в сочинениях Пушкина (они собраны в известном четырехтомном «Словаре языка Пушкина»). И дабы правильно понять сегодня пушкинское определение «дара» Гоголя, следует восстановить давнее значение слова. Пушкин говорит о даре Гоголя выставлять так ярко, уметь очертить в такой силе обыкновенность обыкновенного человека, чтобы даже и «мелочь» мелькнула крупно в глаза всем. Самобытный русский мыслитель Юрий Самарин, к сожалению, и сегодня — как и при его жизни — не имеющий сколько-нибудь широкой известности, замечательно писал о Гоголе, опираясь, надо думать, на пушкинские суждения:
«Гоголь первый дерзнул ввести изображение пошлого (то есть обыкновенного. — В. К.) в область художества. На то нужен был его гений. В этот глухой, бесцветный мир… в этот мир высокопоэтический самим отсутствием всего идеального (глубокая, хотя и кажущаяся неким парадоксом мысль, к которой мы еще вернемся. — В. К.), он первый опустился как рудокоп, почуявший под землей еще не тронутую силу».
Здесь важно вспомнить, что в центре великих русских книг, созданных до «Мертвых душ», были явно не «обыкновенные», не «пошлые» герои — Онегин, Чацкий, Печорин. Это образы высокопросвещенных и «европеизированных» людей, в целом ряде отношений оторвавшихся от «обыкновенной» русской жизни, смотрящих на нее как бы со стороны, с точки зрения своих «идеалов» — неизбежно более или менее отвлеченных. Герои «Мертвых душ» принадлежат к тому же — главному тогда — дворянскому сословию, что и Онегин, Чацкий и Печорин. Но они ни в коей мере не оторваны от «обыкновенной» жизни страны, никак не отделены от нее ни в своем быту, ни в своем сознании. Конечно, и до гоголевской поэмы такие герои являлись в литературе, но лишь на втором плане, как некий фон главного действия. В поэме же Гоголя они предстали, по пушкинским словам, так ярко, в такой силе, так крупно, что совершилось своего рода ни с чем не сравнимое открытие. Самарин вполне уместно сравнил Гоголя с рудокопом, почуявшим под землей никем «еще не тронутую силу».
Мне могут напомнить, что позднее, уже после «Мертвых душ», явилось немало выдающихся произведений (взять хотя бы драмы Островского, сказания Лескова, новеллы Чехова), воссоздавших «обыкновенную» русскую жизнь во всех ее проявлениях. Но существует не могущая быть превзойденной ценность первооткрытия, к которому способен только истинный гений. Именно первооткрывательский характер «Мертвых душ» определил ни с чем не сравнимые крупность и мощь образов, поражающих непредвзятого читателя поэмы. Герои «Мертвых душ» — это, пользуясь удачным словечком Белинского, в самом деле «чудища», хотя все их поступки вполне реальны или даже заурядны.
Я говорил, что образы гоголевской поэмы поражают непредвзятого читателя. И это необходимо было сделать, ибо «предвзятые», беря в руки книгу Гоголя, в сущности, заранее ждут от нее прежде всего или только «обличения» ничтожных и порочных «помещиков», а нередко именно поэтому даже и вообще не берут «Мертвые души» в руки…
Но перед нами результат того умысла, того передергивания, которые начались с порабощенного «политикой» Белинского. Вернусь к словам Самарина о том, что «отсутствие всего идеального» делает мир, воссоздаваемый Гоголем, «высокопоэтическим». Определение «высоко», перекликающееся с «возвышенным», может сбить с толку, ибо в мире «Мертвых душ» собственно возвышенного не так уж много. Самарин, очевидно, имел в виду, что этот мир в высокой степени, то есть весь, целиком, насквозь, поэтический, и как раз потому, что в нем нет противостоящего прозе жизни «идеального» начала (что присуще, скажем, грибоедовскому «Горю от ума», где «идеальный» Чацкий противостоит своему «низменному» окружению). И вспомним, что еще не подчинившийся требованиям «политики» Белинский в своей первой, цитированной выше статье о «Мертвых душах» писал, что поэтический пафос гоголевского творения «проявляется не в одних таких высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах».
Впрочем, вглядимся для начала в эти самые «высоколирические отступления». Вот одно из них — размышление о судьбах умерших крепостных мужиков, «купленных» Чичиковым:
«И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, подрядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики меж тем, зацепляя крючками по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далее виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в громадные суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню!» Никто не оспорит, что перед нами фрагмент подлинно поэтического мира; но в чьей душе эта сцена развертывается? В душе Чичикова! Да, Чичикова, который в этот момент, согласно «пояснению» Гоголя, «задумался, так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни».
«Разгул широкой жизни…» Тем, кто находится под гипнозом полтораста лет внушаемой догмы о Гоголе — «отрицателе» и «разоблачителе», это, конечно, покажется спорным; и тем не менее все — буквально все, что явлено в гоголевской поэме, есть именно «разгул широкой жизни»…
Обратимся к еще одному «лирическому отступлению» поэмы (которые вообще могут быть определены как своего рода ключ к целостному смыслу «Мертвых душ»):
«Лошадки расшевелились и понесли как пух легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: „Эх! эх! эх!“, плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка… Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: „черт побери все!“ — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное?»
Далее идет знаменитейший текст о птице-тройке, который многие знают наизусть, но, как правило, отнюдь не связывают с Чичиковым. Однако у Гоголя-то именно Чичиков мчится на этой самой тройке! В литературоведческих сочинениях можно найти попытки как-то отделить Чичикова от тройки; говаривали также и о «прискорбной ошибке» Гоголя, отдавшего свою тройку не тому, кому следует…