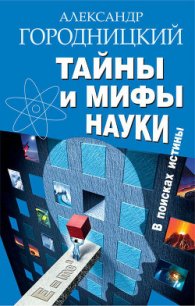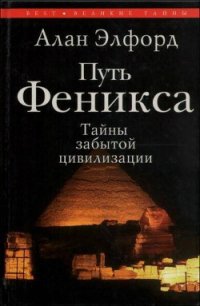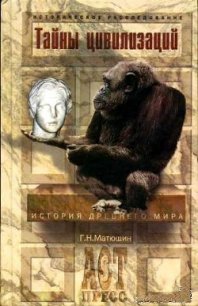Тайны волхвов. В поисках предания веков - Джилберт Эдриан (читаем книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Самая крупная форма эзотерического христианства, прикрываемая гностицизмом, всегда предавалась анафеме и папами, и императорами. Гностицизм был подавлен как открытое движение правоверной католической церковью на протяжении четвертого столетия, но сохранился как подпольное течение, особенно в таких многонациональных центрах, как Александрия и Эдеса. Именно в таких местах берут свои истоки ранние церкви — среди общин евреев, ессеев и греков, которых первыми просветили Апостолы. Следовательно, более чем вероятно, что многое из считавшегося римской церковью ересью было на самом деле частью ранних, тайных уроков самого Иисуса. Гностические обычаи, идеи и писания были сохранены неортодоксальными общинами Востока, несмотря на преследования со стороны «отцов церкви». Сохранение гностицизма имело глубокое значение для будущего развития Европы, когда европейцы, участвовавшие в крестовых походах, оказались в Северной Месопотамии.
Среди городов Малой Азии, сначала опустошенных Хосровами и затем захваченных арабами-мусульманами, была и Антиохия. Один из крупнейших городов мира, подобно Александрии в Египте, Антиохия была обязана своим появлением походам Александра Великого. Город был основан в 307 году до н. э. Селевком Никатором на таком месте, откуда было удобно контролировать торговые пути между Верхней Месопотамией, Египтом, Палестиной и Малой Азией, но обрел известность при Антиохе I. Последний сделал его столицей западной части империи Селевкидов и резиденцией самих царей. Как эллинистический город, Антиохия процветала и была известна своими произведениями искусства и вольными нравами. В отличие от современной ей и соперничавшей с ней египетской Александрией, Антиохия не несла на своих плечах груз огромной античной цивилизации и в некотором смысле была более открыта для экспериментирования. Она с восторгом приняла христианство, и после разрушения в 70 году н. э. Иерусалим стал поистине городом-матерью церкви[67].
Только после Никейского собора по повелению императора Константина в 325 году был установлен Символ веры, к которому должна была присоединиться вся церковь. До этой даты существовало множество разногласий, но и после принятия того, что стало называться Никейским символом веры, разногласия не были полностью урегулированы. В то же время, похоже, было утрачено многое из эзотерического понимания христианства и особенно его связей с ранними астральными религиями. Эта ситуация прекрасно описана Уильямом Кингслэндом, бывшим одновременно профессором астрономии и, подобно Миду, теософом:
«Изучение христианских истоков — дело весьма сложное и противоречивое… но совершенно очевидно, что либерализация этих писаний /Библии/ объяснялась тем фактом, что те, кто в конечном итоге получил доминирующее влияние на церковных соборах и стал создателем символов веры, которые господствовали на протяжении многих столетий, не были теми, кто был посвящен в гностицизм. Они были на деле жалкими невеждами и не только в гностицизме, который… покоится в сердце всех иносказаний, мифов и сказок в христианских и других древних или дохристианских писаниях, но и в том, что касается географических, астрономических и антропологических фактов, которые были хорошо известны другим людям на протяжении тысячелетий до христианской эры и которые, будучи познанными, как они были познаны посвященными отцами церкви, объявленными еретиками этими же самыми создателями символов, полностью изменили бы всю структуру традиционных символов веры».
Внутри ранней церкви Антиохия и Александрия представляли две противоположные точки зрения на природу Христа и его миссию. Антиохийская школа стремилась подчеркнуть человеческую — в противовес божественной — природу Христа. Они видели в человеке Иисусе скорее образ человечества, нежели его Спасителя. Согласно такой точке зрения, хоть и высоко одаренный, Иисус родился смертным человеком и только во время своей казни развил свои высшие способности и разум, призванный стать божественным, и завершением этого процесса стало его воскресение из мертвых. Его победа над смертью, хотя и имела огромное значение для человечества, не гарантировала спасение его последователям. Люди сами должны были последовать за ним и — с помощью Христа — обрести вечную жизнь. Но они добьются этого в основном собственными усилиями, без которых немыслимо личное спасение.
Александрийская школа, напротив, подчеркивала божественную природу Иисуса с самого его рождения как воплощение Логоса или Вечности. Она испытывала сильное влияние наследия язычества как самого Древнего Египта, так и неоплатонических школ, вроде терапевтов, сильно увлекавшихся греческими философскими традициями. Александрийцы были озабочены развитием христологии, совпадающей с традиционной философией, и с этой целью стремились толковать Библию в более иносказательной манере. Для них человек Иисус имел гораздо меньшее значение, нежели тот факт, что он был воплощением второго лица в Троице. Божественность Иисуса Христа как Вечности или Логоса[68] не ставилась под сомнение, но александрийцы подвергались — по крайней мере с точки зрения антиохийцев — опасности утратить значимость исторического человека Иисуса.
Напряженные отношения между этими двумя полярно противоположными школами мысли стали в значительной степени движущей силой политики церкви в IV веке, подчас ставя в тупик римскую церковь, которая — в отличие от своей греческой кузины — интересовалась академической теологией и больше заботилась о власти. Обе школы были — хотя часто сами не понимали этого — сторонами того же самого гностического взгляда на христианство. Их разногласия проистекают из их точек зрения: одной, рассматривающей жизнь с позиции человека как сотворенного, но еще несовершенного существа, и другой, сосредоточенной на идеале — совершенном человеке в образе Бога. Никейский символ веры склонялся благоволить александрийской точке зрения с весьма абстрактным определением Троицы в качестве тайны, недоступной человеческому пониманию. Такой подход удовлетворил латинскую церковь, но вызвал глубокое неудовольствие в Антиохии, приведшее к схизме в форме нескольких еретических движений вроде ариан и несториан, отколовшихся от основного ствола правоверного католицизма.
Эдеса увязла в этих конфликтах, и, как мы видели, в 489 году школа персов, отождествлявшая себя с несторианством, была закрыта, а ее наставники изгнаны в Нисибис. Это, однако, не означало, что оставшиеся в городе христиане объединились перед лицом ислама. Монофизиты все еще остались расколотыми на три подозрительно относящиеся друг к другу секты: православная греческая церковь, лояльная императору; яковиты, в большинстве своем сирийцы по национальности и твердые монофизиты, и, наконец, армяне. Каждая церковь имела своего архиепископа или патриарха и свой собственный кафедральный собор, а также свой «Мандилион». Естественно, они спорили, кому принадлежит оригинал, и весьма вероятно, что все три были копиями.
Захват арабами в 639 году Эдесы вместе со всей северной Месопотамией привел к тому, что «Мандилион» снова оказался вне пределов империи. Это было нестерпимо для византийцев, которые собирали античные реликвии со страстью, достойной современных археологов. В 943 году они осадили Эдесу и потребовали передачи «Мандилиона» в обмен на пленных мусульман и уплаты церкви 12 000 сребреников[69]. Хотя христиане Эдесы не желали расставаться со столь дорогой им иконой, мусульманские правители лучше поняли ценность сделки, в результате которой должны были быть освобождены несколько сот их соплеменников в обмен на тряпку сомнительного происхождения. В конце концов жители Эдесы отдали не без сопротивления «Мандилион», который с триумфом был доставлен в Константинополь и выставлен на обозрение в Софийском соборе прежде, чем быть переданным на хранение в императорский дворец. Хотя византийцы увезли то, что они считали оригиналом, нельзя исключить, что им всучили ту или иную старую копию. Одно можно сказать с уверенностью: жители Эдесы не расстались с ним по доброй воле, поскольку по связанному с «Мандилионом» суеверию Христос должен был защитить их от нашествия, пока икона оставалась в городе. Тот факт, что его защита не уберегла город от занятия арабами-мусульманами, не убавил их веры. Двести лет спустя горожане крайне нуждались в любой протекционистской силе, какую только им удалось бы найти.