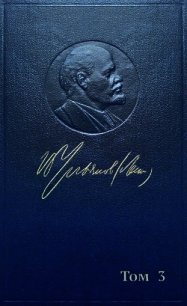Философия бунта - Баталов Эдуард Яковлевич (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
«Новых левых» нередко упрекают в абстрактно-гуманистической, романтической критике индустриальной цивилизации [Молодежь восстала, «как и романтики XIX столетия, против общества, которое, как она считает, стало чрезмерно регламентированным, непомерно систематизированным и индустриализованным. Как и ее предшественники, она поднялась против рационализма, возлагая на него вину за уничтожение всего стихийного, и призывала вместо этого к беспрепятственному выражению эмоций» («Time», 19. XII. 1969).]. Им предрекают судьбу битников, выступивших в послевоенной Европе с критикой начавшего уже тогда складываться «общества потребления» [Битники (или «разбитое поколение») представляли собой группу «внутри поколения людей, родившихся в 20-е годы, росших в обстановке экономического кризиса, принимавших участие во второй мировой войне или бывших ее свидетелями и испытавших всю меру разочарования, которое принес послевоенный период» (Т. Л. Морозова. Образ молодого американца в литературе США. М., 1969, стр. 6). Определенная часть битников, несомненно, искренне отвергала господствовавшие в капиталистическом обществе ценности, но их протест – против войн, против частной собственности и потребительского фетишизма – имел пассивную форму морального «отказа», перерастая порою в принципиальный отказ от благ промышленной цивилизации и проповедь эскапизма, отшельничества, бродяжничества.]. В этом сравнении есть своя логика, ибо в плане критики современной буржуазной цивилизации битники были прямыми предшественниками не только хиппи, усвоивших их чисто внешние аксессуары, но и «новых левых». Однако есть между ними и определенная разница. Движение битников носило в целом узкокультурнический характер, оно не имело массовой базы и не предлагало иной альтернативы, кроме «ухода из общества» (что сегодня проповедуют хиппи). Движения протеста 60-х годов, будучи в основе своей «культурническими», несут вместе с тем очевидную политическую нагрузку. Они имеют более широкую массовую базу и характеризуются отчетливо выраженным активизмом. Это нашло отражение и в такой черте массовых движений протеста 60-х годов как радикализм, принявший отчетливо выраженную «левую» окраску. Леворадикальный настрой массовых участников движения протеста определил и методологию их критики капиталистического общества, и формы их социального действия.
Занимая в социальной структуре современного капиталистического общества положение, не тождественное положению мелкой буржуазии, протестующее студенчество и интеллигенция вместе с тем разделяют многие социально-психологические особенности и политические ориентации мелкой буржуазии, обусловленные ее промежуточным (и потому тоже двойственным) положением в обществе [О политической «анатомии» движения «новых левых» см. 12].
Это дает основание квалифицировать радикализм «новых левых» как левый радикализм мелкобуржуазного типа. Характерными чертами последнего являются склонность легко принимать крайние проявления и перерастать в левый экстремизм, апология стихийности как якобы формы «нерепрессивного» проявления человеческой «самости» и «единственно верного» способа проявления революционной энергии масс [Леворадикальным экстремистам даже анархистская ориентация на стихийность представлялась недостаточно настойчивой и последовательной. «Этот съезд, – говорил один из лидеров леворадикального экстремизма – Даниэль Кон-Бендит, обращаясь к интернациональному съезду анархистов, состоявшемуся в Италии осенью 1968 г., – отрицает стихийность и искренность, которые, по нашему мнению, являются единственным ключом к революции. Продолжая вечную дискуссию между Бакуниным и Марксом, вы не продвинете ни на пядь дело революции. Идеологического согласия нужно добиваться не за столиком, а на площади».[13]], акцент на абсолютное насилие, предопределяющий преимущественную ориентацию на «тотальное отрицание» данного социального мира.
Поскольку капиталистическое общество отождествлялось леворадикалами с одномерной по своей сущности буржуазной системой отношений, институтов и ценностей, то оружие леворадикальной критики направлялось одновременно и против тех, кто стремился выявить позитивные элементы в недрах капиталистического общества, предпосылки преобразования его в общество социалистическое. Этим прежде всего и объясняется тот факт, что значительная часть как американских, так и западноевропейских левых радикалов выступала под влиянием экстремистов против коммунистических организаций капиталистических стран, оказываясь подчас в одном ряду с теми, кто по логике вещей должен был быть их основным врагом, – с антикоммунистами.
«Долой парламент!», «Никаких компромиссов!», «Выборы – предательство!», «Партизанская война в джунглях больших городов!». Эти и им подобные лозунги, брошенные левыми экстремистами в ряды протестующего студенчества и интеллигенции, эта радикальная негативность, это «объявление войны всем, не зная в точности, кому именно», этот «Великий Отказ» и пытались сделать экстремисты основным и, как показала практика, весьма зыбким началом, объединяющим все леворадикальные группировки.
Радикально-негативные установки неизбежно порождали в политическом поведении ориентировавшихся на них леворадикалов проявления антиинтеллектуализма, культурного (и особенно технического) нигилизма, которые так шокировали «общество» и нередко использовались реакционными силами в их попытках под предлогом борьбы с «антиобщественными» тенденциями задушить всякую оппозицию, так или иначе угрожающую буржуазному режиму.
Быстрое распространение среди рядовых леворадикалов экстремистских лозунгов, звавших к абсолютному насилию и «тотальному отрицанию», коренилось в особенностях массового леворадикального сознания, сформировавшегося на базе ограниченного социально-политического опыта и потому упрощавшего реальный ход развития мирового революционного процесса и схематизировавшего диалектику перехода от капитализма к социализму.
Характер леворадикальных требований и способов их осуществления, на которые ориентировались «новые левые», послужил основанием для квалификации этого движения как утопического. Утопизм леворадикалов заключается прежде всего в предлагавшихся ими способах осуществления выдвигавшихся требований, в ориентации на «тотальное отрицание», на абсолютное насилие, в установке на стихийное перерастание эмоционального бунтарского порыва в революционное движение, способное добиться победы; в нигилистическом отношении к коммунистическим партиям и другим организованным прогрессивным силам капиталистических стран и к опыту социалистического строительства, накопленному социалистическими странами; наконец, в иллюзорном представлении о том, будто сама воля к преобразованиям, материализовавшаяся в движениях протеста, может стать решающим фактором отрицания «репрессивного общества».
Во всяком массовом непролетарском движении значительная часть его участников не имеет четко оформленных взглядов на характер исторического процесса, на природу и перспективы движения, которое стихийно увлекло их за собой. В движении «новых левых» к этому добавляется еще и сознательное нигилистическое отношение определенной части студенчества и интеллигенции ко всякой теории и идеологии [Характеризуя американских «новых левых», теоретический журнал Компартии США «Политикл афферс» писал: «То, что можно назвать идеологией «новой левой», не поддается легкой оценке из-за того, что она чрезвычайно изменчива и никогда не является приемлемой для всего движения в целом. Дело усложняется еще и тем, что многие участники движения утверждают, будто они не связаны ни с какой идеологией и начинают с пустого места. Такая позиция сама по себе может быть признана частью политического миросозерцания «новой левой» [14]]. Такой теоретический нигилизм обусловлен особенностями идеологической жизни современного капиталистического общества.
Одной из господствующих форм буржуазной идеологии на Западе является так называемая «идеология интеграции», ориентирующая индивида на конформистское отношение к существующим институтам и ценностям, отрицающая возможность их ниспровержения, проповедующая «здоровый реализм» и предлагающая индивиду собственными усилиями прокладывать себе «путь наверх» в рамках данного мира. Эта идеология, отождествляемая леворадикалами с идеологией вообще, рассматривалась ими как воплощение материальной силы конформизма, которую следовало подвергнуть полному и безоговорочному отрицанию. К тому же в глазах определенной части «новых левых» всякая целостная идеология выступает как «закрытая», как не оставляющая возможности для спонтанного творчества. Если, рассуждали бунтари, революционное действие оформить идеологически, оно должно получить свое лингвистическое, словесное выражение, а это может быть осуществлено только в рамках грамматики, синтаксиса, лексики «сложившегося» языка, давно уже интегрированного существующей социальной системой. Остается одно из двух: ориентироваться на какую-либо «сложившуюся» идеологию, попытаться на базе «сложившегося» языка создать новую идеологию, но тогда это будет проявлением конформизма, либо отказаться от всякой идеологии и тем самым открыть путь к неограниченному спонтанному творчеству, в том числе и языковому [Стремление к языковому творчеству на базе отрицания значений слов «повседневного», «официального» языка, принятого в обществе, – типичная черта современных движений протеста. Впервые в послевоенные годы это явление обнаружилось уже у битников. Современные леворадикалы тоже озабочены проблемами языка, о чем весьма красноречиво рассказывает Маркузе. См. 15].