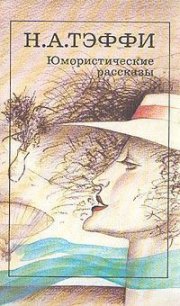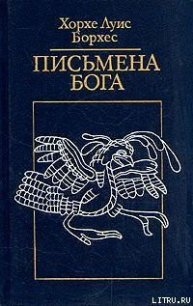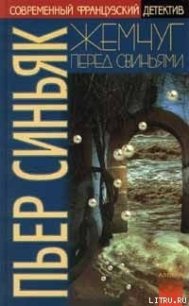Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
К стыду жертвы присовокупляется стыд беспомощного свидетеля. Эти два стыда, как кажется, отражают друг друга в безмолвном эхо, в своего рода поражении, в молчании, которое никакие слова не смогут по-настоящему разбить. Давид Руссе отмечал, насколько узники концлагерей «отделены от остальных опытом, который невозможно передать».
Повествование Антельма было встречено во Франции общим равнодушием. Журнал Les Temps Modernes благородно отдал им должное, поместив на своих страницах одну из немногих критических заметок, начинавшуюся фразой: «Еще одна книга о концлагерях!» Эта ирония хорошо передает настроения того времени. Комментатор из журнала, в целом благожелательно настроенный, нашел книгу «немного длинной» и назвал ее «толстым томом». Статья в журнале Combat в 1949 году сообщала: «Книги об узниках и депортированных больше не в моде», — и мода на них к тому же не собиралась возвращаться. Несколько лет спустя, в 1956 году, Янкелевич в великолепной и очень полемичной статье «Неотъемлемое» негодовал по поводу этого стремления общества предавать забвению ужасы прошлого: «Не следует ли депортированным, в свою очередь, извиниться, что они слишком долго удерживали внимание публики?»
С тех пор произошли изменения. «Род человеческий», произведение, свидетельствовавшее за всех, нашло поддержку через «акты дружелюбия»[84], совершенные Дюрас, Масколо, Переком, Бланшо. «Уникальная книга», — говорил Бланшо, книга «исключительной значимости». А вот слова Перека: «Книга, которая определяет истину литературы и истину мира». То, что Рикёр назвал «причислением к памяти», позволило частично восполнить нехватку внимания. Но чрезмерное уважение и сакрализация после забвения могут превратить текст в мертвое, мемориальное, высеченное на камне слово. «Он завещал нам то, — пишет, например, Филипп Лаку-Лабарт, — что мы никогда не сможем назвать литературой; это нечто большее. Я не чувствую себя вправе добавить к этому ни строчки комментария — это было бы неприлично. Он молчал не для того, чтобы достичь величия, он не отказался — но перестал — говорить». Можно возвести Антельма в ранг героя и сверхчеловека. Но нужно ли до такой степени заковывать его в символы и в божественное, лежащее за пределами литературы? Не окажется ли это в ущерб самому чтению, не станет ли текст своего рода жертвой? Свидетельские показания тоже подвержены идиллическим законам повествования. Но книга должна избежать смертоносных законов увековечивания.
Жорж Иверно напоминает об опасности увековечивания как лакировки воспоминаний: «Воспоминание в человеческой памяти всегда хрупко и подвержено опасностям. В молитве оно более неподвижно. […] Мертвые перестали быть трупами, чтобы стать Именами». Его опыт пребывания в лагерях для военнопленных нельзя сравнивать с опытом узников концлагерей, и особенно с опытом, пережитым узниками лагерей смерти. Иверно, однако, сталкивался с тем, что Антельм называл «несоразмерностью живого переживания и возможностей рассказа». Вот что он говорит о своем возвращении из плена в Германии: «Я никого не интересую. Никто никого не интересует. Все притворяются. Каждый говорит о себе. Других слушают, чтобы получить возможность рассказать им о себе. Но в конечном итоге никто ни на кого не обращает внимания».
Антельма и Иверно объединяет ощущение пропасти, которую невозможно заполнить тем, что Рикер называет «актами дружелюбия», — этими посредническими действиями, этим промежуточным звеном между памятью личной и памятью коллективной. Но выпавшие на их долю испытания они сами пережили в изоляции. Потому что носители исторических воспоминаний держатся обособленно, в своем непередаваемом другим стыде. Все они страдают от равнодушия, мало сообщаются друг с другом и обитают каждый на своей территории — в каком-то молчаливом соревновании, когда каждый отказывается признать другого. По правде говоря, нет ни малейшей причины, по которой Антельм или Леви должны описывать меньшие страдания. Зато a posteriori может вызывать удивление тот факт, что в повествовании Иверно ничего не говорится о евреях. Не говорится о них ни слова и в его проницательном анализе симптомов исторического стыда за концентрационные лагеря. Только в предисловии Раймон Герен (который тоже был узником войны) предупреждает нас: «Небытие концлагерей не знало газовых камер, печей крематориев, биологических экспериментов, мук, транспортировок, голодовок, эпидемий, коллективных помешательств и физической истощенности». Если бы об этом времени не осталось других следов, кроме «Кожи и костей», Освенцим был бы предан забвению.
Почему такое замалчивание? Согласно одному из свидетельств, Иверно сказал об Антельме: «Это слишком сильно для меня». Иверно оказался в той же ситуации, что и его персонаж Дардийё, который в произведении «Вагон для скота» воображает себя униженным героем. Он — «человек, который не в счет». Само его унижение мелко и посредственно: «Что до нас, мы не можем ничего предложить другим, кроме посредственного, вялого и загнивающего страдания». Таким образом, ему приходится испытывать стыд за свой стыд. И этот стыд за стыд направлен на него самого.
Но такое отмежевание от несчастий было, в сущности, общей линией поведения по окончании войны. Стыд вызывает любопытные последствия. «Что ж, сказали и о евреях? — спрашивал Сартр в октябре 1944 года. — Приветствовали возвращение тех, кому удалось спастись, почтили память погибших в газовых камерах Люблина? Ни слова. Ни строчки газетной. Потому что нельзя раздражать антисемитов. Больше, чем когда-либо, Франция нуждается в единстве»[85].
* * *
А ты, спрашивал Жоржа Семпруна его друг Пьер Куртад в прокуренном послевоенном бистро, в подвале которого играла музыка и были танцы, ты-то не собираешься написать про лагеря? Нет, ответил Семпрун, слишком рано. Несколько лет при обсуждении лагерей ему удавалось вести себя так, словно он сам не был депортирован. Чтобы его не воспринимали как бывшего узника, он похоронил свои воспоминания очень глубоко — и говорил, что ему удалось забыть. Выходили книги о депортации. А он молчал. Он видел, как эти книги наталкиваются на стену непонимания и насколько их восприятие подвержено тем же ошибкам, что и устные свидетельства, и эти ошибки усугублялись призывами к забвению во имя будущего, к которым примешивались коллективный стыд и злонамеренность. Семпруна, должно быть, приводил в смятение назойливый лейтмотив, постепенно заглушавший все попытки писать: об этом уже сказано достаточно, давайте поговорим о другом.
Потому ли, что Жорж Семпрун не чувствовал себя ни виноватым, ни униженным, подобно И верно, ему удалось задним числом смириться со своими воспоминаниями и, более того, вновь заставить обсуждать их? Или же потому, что он отказался рассматривать себя как выжившего и уцелевшего узника и хотел написать собственную жизнь с чистого листа? Наверное, по обеим этим причинам — по крайней мере, так утверждает он сам.
Семпрун, молодой интеллектуал-коммунист, переживший Бухенвальд, стал тайным вождем Коммунистической партии Испании и при этом видел тоталитаризм исключительно через призму героического сопротивления, находя его только у нацистов. В послевоенные годы он был глух к разоблачениям Артура Кёстлера и Давида Руссе (первым произнесшего слово «гулаг») по поводу сталинских лагерей. И только в 1963 году, незадолго до исключения из партии, Семпрун начал расставаться с лирическими иллюзиями и с ограниченной идеологией. Он прочитал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. А четыре года спустя, с комком в горле, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. В результате он вернулся к воспоминаниям о Бухенвальде, проанализировал их и посвятил им новую книгу под заглавием «Какое прекрасное воскресенье!», где описал то, что пережил сам. Невинной памяти не бывает — вот что он отчетливо осознает, наряду с неразрывной связью между разными видами тоталитаризма.
* * *