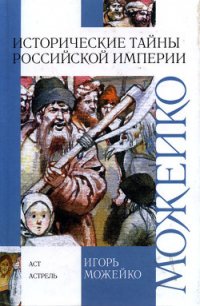Екатерина Великая. «Золотой век» Российской Империи - Чайковская Ольга Георгиевна (книги без регистрации бесплатно полностью txt) 📗
Ни тот, ни другая народа не знали, но их отношения к народу полярны: с одной стороны презрение, с другой – сочувствие. Пусть рассуждения Екатерины отвлеченны, пусть они идут не столько от знания русского мужика, сколько от чтения французских философов, все же ее рассуждения – в пользу народа.
Между тем затронутая в этом споре проблема народного «благородства чувств» очень глубока.
Историки советской поры, представители официальной идеологии, были уверены в том, что нравственность носит классовый характер (в ленинской трактовке: нравственно все то, что выгодно пролетариату, или более широко – вообще «народным массам») и что в основе общественного развития лежит классовая борьба – движитель этого развития. Они занимались в основном народными восстаниями, которые в их представлении всегда высоконравственны и «прогрессивны», сколь бы кровавыми и зверскими они ни были.
Но нет худа без добра: поскольку советская историография всем ходом вещей вольно или невольно была направлена на изучение «народных масс» и «народных движений», серьезные ученые того периода сделали много для того, чтобы рассказать нам о духовном состоянии русского народа, о его строе мысли, настроениях и надеждах.
Обычно народ представлялся нам либо покорным, либо восстающим. Мы и в самом деле видим рабскую покорность – чуть что, мужик валился на колени, но нас не может не дивить та легкость, с какой он с колен поднимался. А поднявшись, начинал вешать дворян. Так и жил: долго бессмысленно терпел, а потом вдруг восставал. Серьезные работы историков советского периода решительно сломали этот стереотип.
Наше представление о том, что темная и неразумная народная масса получала просвещение только сверху, от дворянской (а потом и недворянской) интеллигенции, требует существенных коррективов. Пушкинское замечание – «Нельзя не заметить, что со времени возведения Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» – во многом справедливо, если говорить, предположим, о грамотности и вообще об образовании. Но есть такая область просвещения, как осознание жизни, ее нравственных проблем, понимание социально-политической действительности; как чувство собственного достоинства, надежды на будущее справедливое устройство, – и тут дело обстоит совсем иначе: в глубинах народной массы формировалось свое миропонимание, народная мысль, независимая и глубокая, развивалась не только самостоятельно, но и в противоборстве с официальным мировоззрением. Конечно, повторим, поскольку речь идет об образовании, тут несомненны заслуги правительства и дворянской интеллигенции (да иначе и быть не могло), но вместе с тем в народе шел и некий процесс самообразования, особенно важный, поскольку речь идет об осознании именно корневых проблем жизни.
Здесь народные мыслители XVIII века обнаруживали глубину, дворянам, пожалуй, даже недоступную (разве что Радищеву), они выступали с болью, гневом – и знанием предмета: И самое важное для нас состоит в том, что они, близкие пугачевцам по многим позициям и требованиям, признавали единственный путь – безнасильственный. Восстания вспыхивали, заливали страну кровью и сами погибали в крови. Безнасильственная работа народных проповедников, тоже, разумеется, чисто просветительская, шла ровно, каждодневно, она противостояла духовному гнету, очищала народное сознание от рабской покорности и, конечно, играла несравненно более благотворную и благородную роль, чем бунт, не всегда бессмысленный, но всегда беспощадный, обращающий вспять нравственное развитие общества.
Заглянем на минуту в эту, незнакомую нам, народную жизнь. Бродил, например, по свету беглый солдат Евфимий со своей женой, беглой крепостной Ириной. Был он проповедником, писателем, художником (это как раз 60-е годы, те самые, когда развернула свою работу Екатерина). Он независим в своих взглядах, для него нет иного авторитета, кроме голоса разума и сердца. Традиционные тексты Священного Писания, такие, как «несть власти, аще от Бога», для него ничего не значат – отвага мысли ничуть не меньшая, чем вольнодумство Вольтера. Если крестьянские движения, и, конечно, прежде всего пугачевщина, обнаруживали устойчивые царистские пристрастия, то Евфимий вообще отрицает царскую власть – для него она «от бесов, а не от Бога».
Евфимий полагал, что старый мир неправды и насилия должен погибнуть неким мистическим образом, его воображению рисуются картины, достигающие апокалиптического накала, когда старый жирный мир плавится в лучах некоего духовного солнца – и желанный «новый человек» предстает в обличье великолепном: в нем «граничит небо с землей», иначе говоря, физическое и духовное начало сочетаются самым счастливым образом. И вот еще замечательный ход мыслей: если в настоящем, несправедливом обществе человек порабощен вещами («воистину таковы вещи берут его в плен и лишают его благородные свободы: коликие земные вещи любит кто, толиких вещей раб он и пленник»), то новый человек будет хозяином, господином вещей и потому свободен. Он станет жить плодами, которые создал сам «без обиды ближнему», не похищая чужого труда, он в согласии с доброй природой и с другими людьми. Этому светлому учению чужда какая бы то ни было ограниченность, которая бывает столь присуща узким крестьянским миркам, – нет, люди Божьи рассеяны по всему миру «под разными титлами вероисповеданий» (даже так!), а потому речь идет о всемирной борьбе за «нового человека».
В учении Евфимия, как, впрочем, и в проповедях других народных проповедников, мы встречаем прославление природы, столь понятное в устах крестьянина и куда более органичное и глубокое, чем у Руссо и его последователей.
Вообще идеи Просвещения и народные проповеди в провозглашении свободы, равенства и братства бродят где-то неподалеку друг от друга. А мысли о создании «человека новой породы» и, более того, программа по созданию такого «нового человека» были постоянной заботой Екатерины (о чем речь впереди).
Проповеди народных проповедников оказывали на крестьян, особенно крепостных, огромное воздействие. Народ и сам был страстным и неотступным мечтателем, и мечта его была все о том же – о вольной жизни, мирной, спокойной, когда можно было бы работать, не боясь, что у тебя отнимут все, тобою выращенное, что самого тебя навеки оторвут от семьи, отдав в солдаты или продав куда-то, как скот. Эта мечта о свободе и мире, о вольной спокойной работе нашла свое выражение во многих легендах – о том, что стоят где-то счастливые невидимые монастыри и даже целый город – Китеж, Божья рука скрыла его под водою. Была в народе мечта о «далеких землях», где-то «за морями, за семидесятью островами» – земной рай. Вера в него была так велика, что люди бежали из поместья, за ними гнались, их ловили военные команды, но остановить это движение было невозможно; крестьяне снимались с места семьями, вместе со скотом и скарбом, целыми деревнями шли искать ту желанную страну, Китеж, или Белозерье, или еще какую-нибудь неведомую, о которой говорил им проповедник.
Этого мира крестьянской мысли и крестьянской мечты ни Екатерина, ни Сумароков, разумеется, не знали (этого и Пушкин не знал), но она видела в крепостном человека, а он – лишь повара или лакея.
Итак, в екатерининском Наказе ставился вопрос об уничтожении крепостного права, а значит, в нем все-таки была глава о крестьянстве. Куда же она делась?
Дело в том, что Наказ редактировали, и редактировали варварски – у нашего самодержавного автора, увы, был редактор, и не один. Конечно, ее единомышленники признали труд императрицы целиком. Григорий Орлов, как мы знаем, был от него без ума, но критика большинства оказалась настолько резкой, что Екатерине пришлось отступить. И дело было не только в отдельных замечаниях. «…Тут при каждой строке родились прения, – пишет она. – Я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины тово, что написано мною было, помарали, и остался Наказ Уложения, яко напечатан». Далось это ей нелегко, в ее письме к д’Аламберу слышно отчаяние: «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и Бог весть, что станется с остальным».