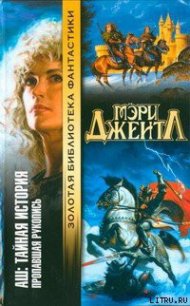Мой Карфаген обязан быть разрушен - Новодворская Валерия Ильинична (библиотека электронных книг txt) 📗
Если Иван Третий создал основы этатизма и тоталитаризма, то аура тоталитаризма, его духовная сущность, конечно, создаются страхом. Иван Четвертый создает страх, вечный страх, что ночью к тебе кто-то постучится. Сначала — опричники, потом — ВЧК, потом — НКВД, потом — КГБ и дальше прибавляйте сами, кто еще может постучаться. Рождается совершенно новая формула власти. Рождается она в знаменитой переписке Иоанна с Курбским.
Прежних друзей Иоанн не сохранил, когда решил идти по пути автократии. Никакой Избранной Рады не осталось, Сильвестр и Адашев были сосланы; слава богу, что они были сосланы достаточно рано. Иван просто о них забыл. Если бы он о них вспомнил, они были бы казнены самым ужасным способом. А они тихо умирают своей смертью. Он уже и не помнит о них.
А вот идеи диссидентства получают на Москве новое развитие.
Здесь развилка. Здесь рождается западничество, и здесь рождается славянофильство. Здесь рождаются Сопротивление и Эмиграция. Два диссидента XVI века, два блестящих диссидента — митрополит Филипп Колычев и Андрей Курбский — идут совершенно разными путями. Они оба были умными людьми, и оба понимали, что рассчитывать не на что. Но они выбирают разные дороги. Когда Курбский видит, что начинается на Руси, и что жить на Руси больше нельзя, не будучи холопом, он понимает, что надо или просто бежать, или идти на казнь. На казнь идти не хочется, нет смысла. Он считал, что нет смысла, он не был трусом. Он думал, что кроме рабов, никто это не увидит и не оценит. Никто не поднимется. Ему не хотелось доставлять удовольствие Иоанну. И тогда он перебегает вместе со всеми своими полками (теми, которые захотели с ним идти: кто не захотел, те были разбиты, потому что он привел их в литовское окружение). Он перебегает в Литву. Конечно, его с большим удовольствием принимают вместе с войсками. Он пишет историю царствования Ивана Четвертого. И начинается эта переписка. Четыре письма Курбского и два письма Иоанна. Совершенно замечательные свидетельства. Там есть формула власти: московской власти, будущей советской власти, формула московской Орды: «Я, князь и великий царь всея Руси, в своих холопях волен». Вот отныне формула власти. Все на Руси холопы. Все — собственность, все — прислуга Великого Князя или царя, но не граждане. Нет граждан, есть холопы. И он в них волен. Нет законов, нет ограничений, нет никакого общественного договора, нет никакой Конституции. Вообще ничего нет. Кстати, его переписка с Елизаветой Английской тоже наводит на очень грустные размышления.
Когда Елизавета ему через посредников передает, что ее брак с Иваном Васильевичем должен быть не только ею решен и заключен, но еще нужно, чтобы на это согласились палата Общин и палата Лордов, чтобы купечество не было против, — Иван чувствует себя оскорбленным в своих лучших чувствах. Он ей пишет: «Я-то думал, что ты полная государыня в своих волостях, а ты, как пошлая девка, советуешься со своими подданными». То есть идея общественного консенсуса и некоего ограничения власти даже его шокирует. Никакого ограничения дальше не будет до самого конца. А когда оно возникнет, уже некому будет воспользоваться этим ограничением, потому что привычка — это душа державы. И если кто-то вырос в рабстве, и отцы его, и деды выросли в рабстве, то пока не известны механизмы, способные насильно освободить раба, который своим рабством доволен и увлечен. Здесь вольную написать мало. Вольная не делает раба свободным человеком, она делает его вольноотпущенником, и он далеко от клетки не уйдет, к сожалению. Мы это все сполна сейчас переживаем.
Но тогда, в XVI веке, никого и не собирались из клетки вы пускать. Тогда, в XVI веке, Курбский бежит в Литву и, между прочим, поперек его пути становится мой предок Михаил Новодворский. Он был воеводой в Дерпте. По сравнению с Курбским он был незнатным человеком. Он был простым служилым дворянином. Он не был князем. Дворянство котировалось ниже, у него не было такого состояния. Хотя независимость состояния Курбского тоже была проблематична. Ведь это автократия, это не абсолютизм. При желании царь мог отобрать вотчины. Но он просто не успел. Курбский ушел в Литву. Вотчины царю достались, а Курбский не достался.
Михаил Новодворский был очень своеобразным человеком Он знал, что князь замыслил по тогдашним стандартам (да и, наверное, по современным тоже) государственную измену. Потому что он же не сам ушел, он увел войско, и он поставил войско в литовское окружение, так, чтобы литовцы могли его разбить. То есть по нашим нынешним представлениям он был Власовым. Что-то вроде этого. Проще было донести. Но Новодворский не пошел доносить. Он отправился уговаривать князя, чтобы тот одумался. Князь даже разговаривать с ним не стал. Тогда Михаил Новодворский достал шпагу и вызвал его на дуэль. А поскольку он был более слабым фехтовальщиком, чем Курбский (и он это знал), то Курбский его убил и ушел в Литву. Так он разрешил эту коллизию. Доносить не пошел, но лично воспротивился. Вспомнил ли потом об этом Курбский, неизвестно. Но в Литве ему не было сладко. Он там не прижился. Он не нашел там себе места, хотя это была свободная страна. Ему были пожалованы земли, уж эти-то земли никто не мог отобрать. Он не был там счастлив, потому что он все время думал о том, что происходит на Руси. Уж какое там счастье, если дома Содом и Гоморра. И эта переписка, все четыре письма, доказывает, что счастлив он не был. Наверное, большее счастье выпало на долю Филиппу Колычеву, который никуда не поехал, а в Казанском соборе, среди массового скопления народа, просто оскорбил Иоанна. Обличил его публично. Чуть ли не отлучил его от Церкви. Произнес немыслимые тогда слова. Он ведь тоже был просвещенным человеком, таким же, как Курбский. Курбский по своим убеждениям был законченным западником, он знал латынь, он и говорил больше на латыни и по-польски. Он знал французский язык. А Филипп Колычев у себя на Соловках устроил некоторое государство в государстве. Он там создавал библиотеки, парники, книгохранилище. Он дыни стал выращивать на Соловках. Он вдобавок был мичуринцем. Он реформу монастыря провел. Там стали выбирать экономов, выбирать иерархов. Он тоже был республиканцем. Но он выбрал путь Сопротивления. Поджечь что-нибудь скорее — и погибнуть. Понятно было, что произойдет. Но он действительно на следующий день попадает в заключение. Так просто казнить Митрополита было нельзя. Уже тогда были некоторые ограничения. Народ был безумно набожен, до остервенения. И на глазах у всех казнить святителя Церкви, бывшего к тому же главного иерарха, — это было бы плохо для самого Иоанна. Он на это не пошел. Поэтому Колычева казнят позже, когда Малюта Скуратов отправится брать Новгород по второму разу, хотя там брать уже было нечего. По дороге он заедет и убьет Филиппа Колычева, причем сделает это так, как будто он угорел, то есть его задушат. Такой бюллетень для народа издадут, что он угорел, печку перетопили. Сначала Малюта выяснил, не одумался ли Митрополит, нельзя ли вернуть его на Москву, попросил его благословения. Филипп ему отказал. Он сказал, что для доброго дела он готов дать благословение, а для злого — нет. Поскольку царь московский и все его клевреты никогда не ходят по добрым делам, то никакого благословения он не получит, а проклятье — пожалуйста. После этого ответа понятно, что было.
Филипп Колычев, по крайней мере, погиб быстро. Он не увидел того, что было с Русью. А смотреть на это действительно было прискорбно и очень тяжело. Легче было сразу умереть.
Этот протест не имел абсолютно никакого резонанса. Другие иерархи Церкви не стали подписывать письма в защиту Митрополита Филиппа. Не возникло никакого Движения, как после ареста Даниэля и Синявского. Никто не попытался за него заступиться. Народ московский восстания не устроил. На манифестацию не пошел. Глухо и просто. Удушили — и круги по воде даже расходиться не стали. Как в омут. Отныне все протесты на Руси будут падать в омут, и эти волны будут смыкаться. Волны этатизма. Но глоток свободы, личный глоток свободы он получил. Он, кстати, не хотел быть Митрополитом, он много раз отказывался. Он понимал, что за личность Иоанн. Он только с тем условием согласился, чтобы тот оставил за ним право печалования, то есть право заступничества, право помилования, как за комиссией Анатолия Приставкина. Это право было очень быстро у него отобрано.