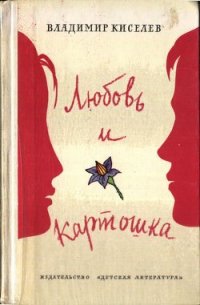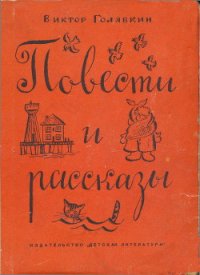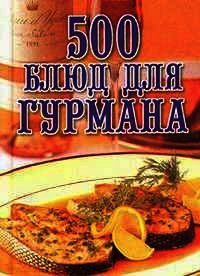Повести - Рубинштейн Лев Владимирович (лучшие книги читать онлайн .txt) 📗
В этот день впервые выпал снег. На фронтоне лицейского здания сияла огненная буква «А» (в честь царя Александра). Огоньки отражались на снегу радужными пятнышками. Громадный Екатерининский дворец весь блестел пылающими плошками. Липы Царского Села выглядели под снегом таинственно и радостно. Кто-то надумал играть в снежки, и воздух наполнился летающими белыми хлопьями.
Жанно и Пушкин атаковали маленького Федю Матюшкина и после долгого сражения насыпали ему снегу за высокий воротник. Матюшкин лежал на снегу и отбивался ногами, пока Чирикандус не велел оставить Федю в покое. Федя поднялся, отдуваясь, снял мундир, вытряхнул снег и сказал, улыбаясь во весь рот:
— Это вовсе не честно. Вдвоём на одного нельзя. Когда я подружусь с кем-нибудь, мы вам покажем.
— С кем ты собираешься дружить? — спросил Жанно.
— Я думаю, с Дельвигом…
Пушкин захохотал.
— Ей-богу, Жанно, он отличный малый! Они вдвоём с Дельвигом и десяти слов за день не скажут!
Пушкин налетел на Федю и стал его щекотать — это была его любимая манера. Федя вырвался и убежал.
— Пойдём, Саша, — сказал Жанно.
— Постой, — рассеянно отвечал Пушкин, — посмотри…
Парк под снегом казался волшебным царством. Горбатые мостики висели над тёмными каналами. Беседки на мостиках плыли в сумерках, как белые корабли. Статуи голых борцов оделись снегом, как шубами, а древняя богиня растений Флора, казалось, несла перед собой снег на блюде. И всё это отражало огни.
— Как в театре, — сказал Жанно.
— Нет, не в театре, а заколдованные сады.
— Пойдём, Пушкин, — повторил Жанно, — нечего сказки сочинять: ведь мы будущие столпы отечества. Ты кем собираешься стать?
— Скорее всего, гусаром, — отвечал Пушкин. — А ты?
— Я тоже, пожалуй, в кавалерию.
Каморки лицеистов были малы. Жанно, мальчик крупный, едва передвигался между железной кроватью, конторкой и умывальником. Полукруглое окно занесло снегом. На конторке горела свеча.
Спать ложились в 9 часов вечера. В это время полагалось тушить свечку металлическим колпачком. Никто не входил в каморку, но и свечей добавочных не выдавали: сжёг — сиди в темноте.

19 октября вечером Жанно потушил свечку и лёг. За стеной слышался скрип и шорох. Кто-то царапал стенку ногтем.
— Кто там?
— Это я, Пушкин… Послушай, Жанно, сходим во дворец?
— Сходим, — сказал Жанно, — только сапог не надевай, а то услышат.
— Как ты думаешь, есть там кто-нибудь?
— Караул стоит у наружных дверей. А в залах Екатерины могут быть только привидения.
— Например?
— Мало ли кто? Может быть, сама покойная императрица — в белом парике и бальном платье с лентой… И не ходит, а плавает по воздуху…
Пушкин отрывисто засмеялся.
— Послушай, Жанно, неужто ты веришь в привидения?
— Нет, — сказал Жанно.
— И я не верю. Старушка мирно спит в Петропавловском соборе. Так что бояться нечего…
Пушкин вдруг замолчал.
— Жанно… Кто там ходит по коридору?
— Наверно, дежурный дядька Фома.
Пушкин не отвечал.
— Жанно, — сказал он через несколько минут, — это не дядька. У дядьки сапоги скрипят. А этот ходит неслышно.
— Как же ты знаешь, что он ходит?
— Он шуршит возле дверей.
Жанно был мальчик решительный. Он встал с кровати, приоткрыл занавеску — и отпрянул.
Возле самой двери боком к Жанно возвышался Пилецкий. На нём был длинный чёрный халат, на голове ермолка. Он стоял опустив голову и сложив ладони перед лицом, словно молился.
— Закройте занавеску, Пущин, и ложитесь спать, — сказал он, не оборачиваясь.
Жанно хотел было спросить: «Что вы здесь делаете, господин инспектор?» — но ничего не сказал. Он тихо закрыл занавеску, а потом не удержался и снова чуть приоткрыл её.
Пилецкий передвинулся дальше. Теперь он стоял возле двери Пушкина.
Жанно подождал несколько минут и выглянул опять. Пилецкий находился возле двери лицеиста Саврасова.
Помолившись, он перешёл к следующей двери.
В течение получаса он передвигался от одной двери к другой. Лампа у дальней арки тускло освещала коридор. Длинная чёрная тень ползла за инспектором по стенам Лицея. От инспектора попахивало чем-то сладким, как от царя.
Жанно постучал в стенку.
— Саша, — зашептал он, — это Пилецкий. Он ходит от одной двери к другой и молится.
— Молится? — переспросил Пушкин. — Как бы не так! Он подслушивает.
КОМЕТА

Повое светило появилось на небе Царского Села.
Над беседками, мостиками и аллеями, между звёзд, висела яркая завитушка, похожая на перо петушиного хвоста. Панькина мать, выходя на улицу, каждый раз крестилась. Панькин отец, небольшой, суровый человек с густыми усами, поглядывая на завитушку, кряхтел и ёжился.
— Что это, батюшка? — спрашивал Панька.
— Небесное тело, именуемое комета. Летит своим чередом, нам до нее далеко.
— А почему мать боится?
— Матери всего боятся. Попы говорят, что сие есть божий знак.
— К чему?
— К войне.
— А с кем война?
— С французом. С Наполеоном — слыхал?
— Слыхал. Да ведь наши ихних побьют, чего ж тут бояться?
— Ты много ли на войне бывал? — сердито спросил отец.
— Не бывал вовсе.
— То-то… Война, сынок, — это огонь и разорение. Кто с войны вернётся, а кто и нет. И будут матери и отцы плакать. Были у меня два друга, десять лет вместе шагали, вместе кашу ели. Оба на Сен-Готарде остались… одного пулей уложило, другой с кручи сорвался…
Панька вспомнил про своего старшего брата Николая, гвардейского солдата.
— Батюшка, — сказал он, — а гвардия на войну ходит?
— Ходит, — отвечал отец. — А как же?
— И Николай пойдёт?
— Пойдёт, ежели надо будет, — насупившись, сказал отец.
— И я с ним!
— Ты? Кому ты там понадобился? Лучше понатаскай ельника. Видишь, начальство приказало махровую розу на восточной стороне сажать. Надо еловыми ветками прикрывать, как бы не поморозило.
— А куда же её сажать?
— На южной стороне надо. Там и сырости меньше. Роза любит сухие места, запомни! Да здесь государь гуляет, вот и сажай здесь…
Отец натянул картуз на уши и занялся розовыми кустами.
Панька завидовал брату Николаю. У Николая были лихие усы и блестящий кивер с золотыми шнурами. Ему разрешали ходить на побывку к родителям раз в год, к какому-нибудь большому празднику, и то потому, что родители его были дворцовыми служителями. Николай был в солдатах три года, а ещё ему оставалось служить двадцать два года. Соседские мальчишки набивались в садовничий дом и восхищённо трогали погоны, вензеля и тесак гвардейского солдата. Но Николай не хвастался своей блестящей формой. Он прогонял мальчишек, закуривал длинную трубку и рассказывал совсем не о геройских делах: о сердитом начальстве, о муштре, о холоде, о побоях — больше всего о побоях. Солдат били палками, шомполами, тростями, длинными прутьями, ножнами сабель и просто кулаками.
Били за малейшую провинность. Стоя во фрунте, кровь утирать не полагалось, но за испачканный кровью мундир ставили на караул вне очереди. А на карауле полагалось стоять, вытянувшись на морозе, в одном мундире, четыре часа.
— Ах ты голубь мой, — всхлипывала мать, — пропадает молодая твоя жизнь!
— Зато гвардия, — угрюмо говорил отец.
Паньке очень обидно было всё это слушать. Ему раньше казалось, что служить в гвардии весело и интересно, что гвардия — это что-то парадное, особенное, почти игрушечное, как дворцы, как беседки, статуи и фонтаны. А тут побои, мороз, строевая служба… Господин поручик пьяница, ротный командир зверь, солдат не человек… Панька сердито нахлобучивал картуз и уходил на улицу, где над всем великолепием Царского Села ярко горела в небе комета, предвещавшая войну.