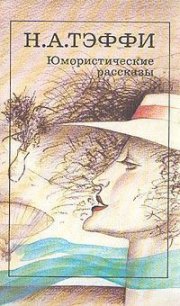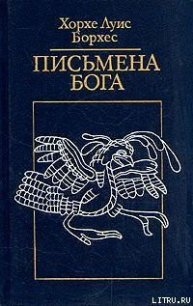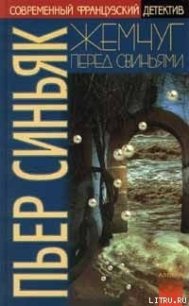Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
Вначале был стыд, говорит нам «Дневник вора». «Моя нищенская жизнь в Испании была деградацией, смесью падения и стыда. Я стал подонком». Это слово встречается у Жене часто — в силу его состояния «от рождения униженного ребенка». Когда он пишет: «То было время моего стыда», — речь идет не о конкретном, мгновенном переживании, которое он выделяет особо. Речь о подспудном, тягостном присутствии вокруг него взглядов других, присутствии, которому он, низведенный до положения предмета, вынужден подчиняться. Таким образом, стыд становится чем-то вроде ореола, нимба наоборот, эманации, запаха, от которого невозможно отделаться: «Этот стыд никогда не был громким. В моем присутствии никто никогда не повышал голоса […], но стыд окутывал меня подобно некоторым запахам, которые исходят от человека, и окружающим приходится делать вид, что они их чувствуют».
Но этот стыд таит в себе гордость. Погрузившись в грязь самых отвратительных откровений, биография автора, написанная им самим и сделавшаяся золотой легендой, превзойдет краску унижения. Время от времени станут случаться падения без признаков стыда: то будут измены, как правило, совершаемые, чтобы уйти от предыдущего состояния и двигаться дальше. А главное — то, что впереди: Жене спасет писательство, высшая гордость, «словесная победа», выросшая из преступления. В итоге для спасительного писательства стыд станет прошлым, прежней жизнью — но прошлым оберегаемым, воспроизводимым в укладе настоящего. Если он служит одной из программных целей творчества, то именно потому, что творчество возвращается к нему как к истоку. «Этой книгой, — пишет Жене в „Чуде о розе“, — я хотел только явить опыт моего освобождения от состояния тягостного оцепенения, от жизни низкой и постыдной, заполненной проституцией и попрошайничеством и подчиненной авторитетам, захваченной очарованием преступного мира».
Таким образом, книги Жене словно бы последовательно воплощают два противоположных движения: сперва подъем к источникам стыда, потом возвращение во славе. Вначале он упоминает о своих «грязных наклонностях», «униженном повелении», «смутном и неотчетливом нравственном чувстве», «годах слабости», предшествовавших «более достойному повелению». Затем он представляет свою первую кражу как освобождение. Быть вольноотпущенником — это значит освободиться от жизни низкой и постыдной «актом физической смелости». Но еще больше свободы можно обрести, ведя дневник вора, утверждая тождество между приходом в литературу и первой кражей. Вести этот дневник, говорит нам Жене, — не просто «литературное развлечение». Это значит испытывать ощущение власти, проникая посредством взлома в запретные жилища личного мира. Это значит также длить состояние неуклюжести — расплата за отрицание как основу мировоззрения: «Моя власть над собой была велика, но, царствуя над своей внутренней сущностью, я сделался чрезвычайно неловким по отношению к остальному миру» («Дневник вора»).
Итак, у Жене литература становится чем-то вроде плавания галсами. Это наглость, бесстыдство в самом прямом смысле слова. Это акт надругательства, которому писатель подвергает самого себя. Об одном из персонажей «Торжества похорон», Поло, Жене пишет, что, «думая во время траура об утехах сладострастия, мы испытываем некоторый стыд». «Во время прогулок я гоню от себя эти картины, и мне пришлось совершить над собой насилие, чтобы написать эротические сцены, которые приведены выше и которыми, несмотря ни на что, была исполнена моя душа. Я хочу сказать, что, после того как я преодолел смущение, вызванное надругательством над трупом, эта игра, в которой труп служит предлогом, дарует мне великую свободу. Страдание раздуло тлеющие уголья». Чтобы преодолеть, согласно Жене, надо преодолевать силой. Но это преодоление хранит память о смущении, благодаря которому оно стало возможным: «Моя гордость зарделась румянцем моего стыда».
Стыд не должен исчезнуть, он просто-таки необходим — как блокиратор, никогда не стираемый след прошлого, особый знак, ибо виновный «замыкается в своем чувстве стыда благодаря гордости»: «В глубине своего стыда, в своей собственной слизи, он окутывает себя сотканной им тканью, которая не что иное, как его гордость. Это неестественная оболочка. Виновный соткал ее для своей защиты и окрасил в пурпур, чтобы приукрасить себя. Но любая гордость предполагает вину». Трудно представить себе более явственную метафору двойственного самоопределения писателя и двойственной природы книги по Жене: книга-кокон, и одновременно — книга-самообнажение.
В этом самовымысле, соединяющем в себе наготу ребенка и одежды писателя, ничто не избегает воздействия первородного стыда. Никогда гордость за книгу, ее «позорная слава», не дойдет до предела внутреннего бытия. Впрочем, ее тайный взлет, подобно краже, несет в себе скрытность. Мы знаем, что нашел у Жене Батай: произведения, «смысл которых в отрицании тех, кто их читает». Другой в них часто предстает отдаленным «вы», врагом, с которым у автора нет ничего общего. Но порой Жене и сам признает, что в этом заключена крупица мошенничества. Даже если относиться к другому так, именно на него направлено синтаксическое обольщение. «По весомости средств, которые мне нужны, чтобы отбросить вас от себя, посудите, какую нежность я к вам питаю. Оцените, до чего же я вас люблю, по баррикадам, которые я сооружаю в своей жизни и в творчестве». Это значит, что литература для него — еще и операция по присвоению другого, переход от пережитой немилости к милости слова.
Жене, в отличие от Дюрас, не говорит, что он ждет перед «закрытой дверью». Нов заключительных фразах «Чуда о розе» он утверждает, что, несмотря на свой собственный манифест бесстыдства, он сам должен теперь закрыть дверь: «Сказал ли я все, что следовало сказать об этом деле? Если я оставляю эту книгу, значит, я оставляю все, что может быть рассказано. Остальное невыразимо. Я замолкаю и иду босиком». Бесстыдство и тайна в их нераздельности — вот источники этой книги и творческой манеры Жене. «Воплотить в жизнь мой миф» — таков его девиз. Но есть еще, и будет всегда, вне пределов сотворенной легенды и смерти, этот невыразимый остаток, создающая легенду недосказанность — то, что Дюрас именует «содержанием личности».
* * *
Маргерит Дюрас и Жан Жене, два литературных имени, представляющих собой одновременно вымыслы и тела, наглядно демонстрируют двусмысленность положения писателя. Дюрас, Жене, или Литература как путь к бесстыдству? Значит ли это, что бесстыдный писатель никогда больше не испытает стыда, что он вышел за пределы того, что обычно называют стыдливостью? Я вполне могу лавировать между этими двумя полюсами — захлебывающейся откровенностью и благоразумной сдержанностью, самым на первый взгляд абстрактным вымыслом и подчеркнуто личностной исповедальностью, я вполне могу свободно выбирать между прилюдным обнажением и строгим костюмом, и во всех этим случаях я здесь, перед вами, одетый в маску и сбрасывающий маску, играющий роль в этой комедии признаний, которую — вопреки своей и моей воле — представляет собой вся литература эпохи индивидуализма, притягиваемая высшим искушением, искушением расправиться с исключительностью, наконец-то вытащить ее, не зная стыда, на всеобщее обозрение. Самый откровенный писатель-эксгибиционист хранит свою тайну. Самый скрытный писатель — все равно эксгибиционист поневоле. И оба находятся под воздействием двойного императива — подобно Бюнюэлю, испытывавшему, согласно воспоминаниям Катрин Денев, одновременно «своего рола стыд из-за того, что он вставляет в свои картины» вещи глубоко личные, и «чувство, что он должен это делать».
* * *
Никогда творчество не предполагало такой связи с реальной жизнью, как во второй половине XX века, и никогда оно не стояло так близко к хеппенингу. И с этой точки зрения нельзя забывать о синдроме Мисимы, прошедшего этот путь до крайнего предела. Многие скажут: то в Японии, в культуре, противоположной нашей. И жизнь Мисимы действительно закончилась на японский манер. Да, этого писателя можно запереть, как в клетку, в его своеобычность. Но Мисима, великий читатель Достоевского, был проникнут западной культурой. И разве, читая «Исповедь маски», мы оказываемся так уж далеко от тех же Гойтисоло, Жене или Дюрас или даже от какого-нибудь Жида, который в 1914 году писал своему другу Эжену Руару по поводу своего гомосексуального влечения: «Я не хочу чувствовать стыд»?