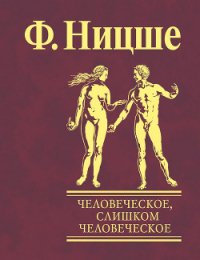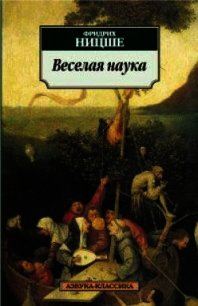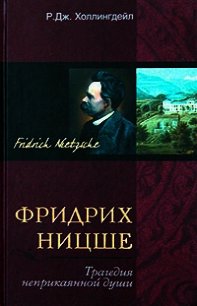Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм - Ницше Фридрих Вильгельм (лучшие книги онлайн .txt) 📗
Но теперь, когда сократическая культура с двух сторон потрясена и скипетр непогрешимости уже дрожит в её руках, во-первых, из страха перед тем, что может воспоследовать из неё самой и о чём она только теперь начинает догадываться, а затем, ввиду того что она сама не испытывает уже прежнего наивного доверия к вечной непреложности своего основания, перед нами открывается печальное зрелище: пляска её мышления с вожделением кидается на всё новые и новые образы, стремясь объять их, чтобы затем внезапно с содроганием отшатнуться от них, как Мефистофель от соблазнительных ламий. В том и признак этого надлома, о котором все привыкли говорить как о коренном недуге современной культуры, что теоретический человек пугается того, что из него самого может воспоследовать, и, неудовлетворённый, не решается уже более вверить себя страшному ледяному потоку бытия; перепуганный, бегает он взад и вперёд по берегу. Он не приемлет больше ничего во всей его полноте, во всей его неотделимости от природной жестокости вещей. Вот до чего изнежили его оптимистические воззрения. К тому же он чувствует, что культура, построенная на принципе науки, должна погибнуть, как только она начнёт становиться нелогичной, т. е. бежать от своих собственных последствий. В нашем искусстве это всеобщее бедствие находит своё выражение; напрасно мы в своей подражательности ищем опоры во всех великих продуктивных периодах и натурах, напрасно мы окружаем современного человека для его утешения всей мировой культурой и ставим его среди художественных стилей и художников всех времен, дабы он мог, как Адам зверям, дать каждому его имя: он всё же остаётся вечно голодающим, критиком бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток.
Едва ли можно острее выразить внутреннее содержание сократической культуры, чем назвав её культурой оперы; ибо в этой последней области названная культура с особой наивностью обнаружила свои намерения и познания, что способно лишь удивить, если мы сопоставим генезис оперы и факты её развития с вечными истинами аполлонического и дионисического начал. Я напомню прежде всего возникновение stilo rappresentativo и речитатива. Можно ли поверить, что эту совершенно сведённую к внешнему, неспособную вызвать благоговейное настроение музыку оперы встречали восторженным приветом и лелеяли её, видя в ней возрождение всей истинной музыки, в то самое время, когда только что возникла невыразимо возвышенная и священная музыка Палестрины? И кто, с другой стороны, решился бы возложить ответственность за эту столь неистово распространявшуюся страсть к опере исключительно на погоню за роскошью развлечений известных флорентийских кругов и тщеславие их драматических певцов? Что в одно и то же время и даже в одном и том же народе рядом с возвышающимися сводами палестриновских гармоний, в сооружении которых участвовало всё христианское Средневековье, могла пробудиться эта страсть к полумузыкальному способу речи, это я могу себе объяснить только из некоторой попутно действующей, скрытой в существе речитатива, внехудожественной тенденции.
Слушателя, желающего отчётливо слышать слова во время пения, певец удовлетворяет тем, что он больше говорит, чем поёт, и в этом полупении патетически подчёркивает смысл слов: этим обострением пафоса он облегчает понимание слов и преодолевает ту другую, ещё оставшуюся половину музыки.
Действительная опасность, которая ему теперь угрожает, заключается в том, что он при случае не вовремя даёт перевес музыке, отчего тотчас же должен пропасть пафос речи и отчётливость слова; между тем как, с другой стороны, он всё время чувствует потребность музыкального разряжения и виртуозной постановки своего голоса. Здесь ему на помощь приходит поэт, умеющий дать ему достаточно поводов для лирических междометий, повторений слов и целых фраз и т. д., на каковых местах певец может теперь отдохнуть в чисто музыкальном элементе, не обращая внимания на слово. Это чередование эмоционально впечатлительной, но лишь наполовину пропетой речи и вполне пропетых междометий лежит в существе stilo rappresentativo; это быстро сменяющееся старание действовать попеременно, то на понятие и представление, то на музыкальное нутро слушателя, есть нечто столь противоестественное и столь противоречащее внутренне как дионисическому, так и в равной мере аполлоническому художественному стремлению, что приходится прийти к заключению о таком происхождении речитатива, которое нимало не связано с какими бы то ни было художественными инстинктами.
Речитатив, согласно данному нами описанию, может быть определён как смешение эпической и лирической декламации, и притом никоим образом не как внутренне устойчивая смесь, недостижимая при столь разнородных веществах, но лишь как внешняя спайка, на манер мозаики, т. е. нечто, решительно не имеющее себе подобия и образца в области природы и опыта. Но не так смотрели на дело изобретатели речитатива: они, а за ними и вся их эпоха, полагали, напротив, что этим stilo rappresentativo разрешалась тайна античной музыки и вместе с тем найдено было единственное возможное объяснение необычайного впечатления, производимого каким-нибудь Орфеем, Амфионом и, пожалуй, даже греческой трагедией. Новый стиль слыл воскрешением наиболее впечатлительной музыки древнегреческой; мало того, при всеобщем и крайне популярном взгляде на гомеровский мир как на некоторый первобытный мир можно было даже отдаться грезе о возвращении назад, к райским началам человечества, когда и музыка необходимо должна была иметь ту беспримерную чистоту, мощь и невинность, о которой так трогательно повествуют поэты в своих пасторалях. Здесь мы имеем возможность бросить взгляд на сокровеннейшие стороны того процесса, результатом которого явилась эта, во всех отношениях современная, форма искусства опера; известный род искусства возникает здесь под напором могучей потребности, но сама эта потребность носит неэстетический характер: она сводится к тоске по идиллии, к вере в первобытное существование доброго и одарённого художественными наклонностями человека. Речитатив слыл за новооткрытый язык этого первобытного человека, опера за вновь обретённую родину этого идиллически или героически доброго существа, которое вместе с тем во всех своих действиях покоряется природному художественному влечению; причём всякий раз, как оно имеет что-нибудь сказать, оно слегка напевает, чтобы, при малейшем движении чувства, немедленно запеть во весь голос. Для нас теперь безразлично то обстоятельство, что тогдашние гуманисты, выставляя новосозданный образ райского художника, имели в виду борьбу против старинного церковного представления о греховном по своей природе и погибшем человеке; так что оперу приходится понимать как оппозиционную догму о добром человеке, представляющую одновременно и средство к утешению, направленное против пессимизма, к которому, при ужасающей неустойчивости и отсутствии безопасности в тогдашней жизни, так склонны были наиболее серьёзно настроенные люди эпохи. Достаточно, если нам стало известным, что обаяние, а с ним и генезис этой новой художественной формы лежат по существу в удовлетворении некоторой совершенно неэстетической потребности, в оптимистическом возвеличении человека в себе и во взгляде на первобытного человека как на существо, от природы доброе и одарённое художественными наклонностями; каковой принцип оперы мало-помалу превратился в грозное и ужасное требование, которое мы, на фоне социалистических движении современности, не можем уже более пропускать мимо ушей. Добрый первобытный человек претендует на права; какие райские виды на будущее!
Я приведу попутно ещё одно столь же ясное подтверждение моего взгляда, что опера воздвигнута на тех же основаниях, что и наша александрийская культура. Опера есть порождение теоретического человека, критически настроенного любителя, а не художника; это один из самых поразительных фактов в истории искусства вообще. Только на редкость немузыкальные слушатели могли выдвинуть требование, чтобы прежде всего были понятны слова; так что возрождение музыкального искусства могло ожидаться лишь в случае открытия какого-либо нового способа пения, при котором текст слов мог бы распоряжаться контрапунктом, как господин слугою. Ибо предполагалось, что слова настолько же благороднее сопровождающей их гармонической системы, насколько душа благороднее тела. Отправляясь от этой дилетантской, немузыкальной грубости взглядов, трактовали с первых же шагов оперы и соединение в одно целое музыки, образа и слова; первые опыты в духе этой эстетики были произведены в знатных дилетантских кругах Флоренции поэтами и певцами при покровительстве названных кругов. Бессильный в искусстве человек создаёт себе некоторое подобие искусства, характерное именно тем, что оно есть произведение по существу нехудожественного человека. Так как он даже и не подозревает дионисической глубины музыки, то он и сводит музыкальное наслаждение к рассудочной риторике страсти, переложенной в слова и в звуки, в характере stilo rappresentativo, а также к наслаждению техникой пения; так как личное видение ему недоступно, то он требует услуг от механика и декораторов; так как он не в силах понять истинной сущности художника, то его фантазия рисует ему, сообразно его вкусам, художественно одарённого первобытного человека, т. е. такого человека, который под влиянием страсти поёт и говорит стихами. Он старается перенестись мечтой в те времена, когда достаточно было почувствовать страсть, чтобы тут же и создать стихи и песни; словно аффект когда-нибудь был в состоянии создать что-либо художественное. Предпосылка оперы есть укоренившееся ложное представление о процессе художественного творчества, а именно та идиллическая вера, что в сущности каждый чувствующий человек художник. По смыслу этой веры опера есть выражение взглядов на искусство публики, дилетантизма в искусстве, диктующего, с весёлым оптимизмом теоретического человека, свои законы.