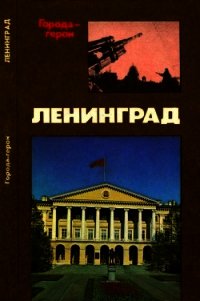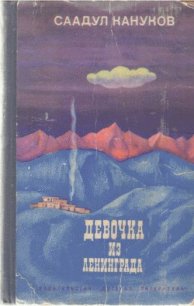Блокадная книга - Адамович Алесь Михайлович (книги полностью txt) 📗
Галина Иосифовна Петрова: «Да, возили мы воду из Невы. Это я помню очень хорошо. Это против Медного всадника. Мы туда ездили через Александровский сад. Там прорубь была большая. Мы на коленочки вставали около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой, оттаивали ее. Эта вода, конечно, грязная была. Ну, кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно скользко. Спускаться вниз к проруби было очень трудно. Потому что люди очень слабые были: часто наберет воду в ведро, а подняться не может. Друг другу помогали, тащили вверх, а вода опять проливалась. Около Сената и Синода стоял какой-то корабль. Там, бывало, моряки приходили и помогали пожилым. Да было и не понять, пожилой это человек или молодой, настолько были, во-первых, все закутаны, а во-вторых, были же коптилки, и из-за этих коптилок мы были как черти».
«Как-то я мужчину попросила, а он говорит (это из рассказа Заборовской Валентины Алексеевны, ул. Варшавская, 116): «Доченька! Если бы я мог достать, я бы достал тебе хоть десять ведер».
Мужчина не мог достать мне воды! Не поймешь: то ли он молодой мужчина, или он старый, ничего не поймешь, потому что люди какие-то были изменившиеся очень.
Ну, как-то я воду эту достала. Я ее подымала! Бабушка жила у нас. Я сейчас скажу, — на втором этаже бабушка жила у нас. И я, значит, эту воду — по одной ступеньке, и всё считала, сколько мне ступенек еще пройти! Вот прошла я ступеньку, считаю — раз, два, три, четыре. Сколько мне еще пройти надо? Я не держусь за перила, веревка у меня привязана к кастрюле, и я иду. Ступеньку пройду — отдохну. Я не могла принести кастрюлю воды. Вот до чего была ослабевши!»
«На лютом морозе мы простояли около двух часов и, наконец, наполнили все наши вместилища. Мы везли наши санки с возможной осторожностью по оледенелым улицам. Надо было еще проехать по двору и завернуть за угол дома. Двор был завален смерзшимся снегом, между сугробов узкой траншеей шла тропинка. Когда мы приближались к повороту, из-за дома навстречу нам вышла девушка-дружинница тоже с санками. На них лежали два уже, верно, уже давно застывших трупа. Тропинка узкая, разлучиться было трудно, на повороте окостеневшая нога задела наши санки, и они опрокинулись. Наша вода! Мы с сестрой стояли ошеломленно, совершенно обессиленные. Присели на санки и расплакались…» (Зинаида Владимировна Островская, ул. Ленина, 34).
На топливо, на дрова разбирались деревянные дома для заводов, учреждений, часть дров давали тем, кто выходил на разборку.
Этим занимались постоянно бойцы МПВО. Звучит мужественно: «бойцы», а на самом деле — восемнадцати-девятнадцатилетние, к тому же истощенные голодом, девчонки.
Вот рассказ одной из них — Дубровиной Клавдии Петровны:
«— И вот обязательно каждый день выделялось несколько человек на ломку дома и чтобы привезти вот это. Не знаю, сколько у нас сил тогда было, — но было, может быть, потому что молодые были.
У нас такие вот большие сани были, самые обычные большие сани, мы ломы туда клали. Сначала мы близко — вот в Новой Деревне, вот здесь — ломали, а потом нам уже приходилось далеко ехать — Озерки, Шувалово, вот туда ехали. Ехали утром на целый день, ломали там дома этими ломами, взваливали на эти сани и везли сюда.
— На себе?
— На себе.
— Лошадей не было?
— Нет! Ну что вы!
Везли мы на себе, но нас несколько человек. Ну, когда зима была — это еще полегче, а когда весна наступила, то было уже очень тяжело. Мы через мост буквально тащили: на мосту снег быстро таял и по мосту было тяжело тащить.
Но опять я должна сказать: пусть это тяжело было, но это нас спасло! Дома я бы не могла, мне было бы нечем, — еще впереди было три зимы страшных, — мне бы нечем было топиться, и я бы пропала. А здесь мы везли и для госпиталей, и для райкома, и для своей казармы. Мы находились в тепле, мы отапливались. Для себя мы же везли. Мы отапливались, мы сушили свои портянки, нам нужно было всё сушить, на нас все же было мокрое, нужно было сушить, и мы таким образом, значит, жили…»
Но каждый ленинградец искал, что поближе и что по силам ему было.
«У нас центральное отопление было в доме сорок, но его не топили. Холодно в комнатах, а на кухне дровяная плита была. Соседка там у нас одна оставалась, так мы с ней ходили. Заборов-то нам не досталось — все спилили (заборы кругом деревянные были). А мы с ней столбики — вот такие от земли — подпиливали. То я лежа попилю ножовкой такой одноручной (что там силы мои были), то она лежа попилит. Так вот принесем, истопим, иногда и сварим там все…» (Зоя Ефимовна Васильева).
Еще ребенком была, но помнит и уже не забудет Галина Александровна Марченко (Приморский пр., 55), как это безмерно важно — хлеб, вода, дрова:
«— Потом, как я сказала, мы перестали ходить в бомбоубежище, потому что у нас и сил не было. И как тревога, мы просто ложились и закрывались. Мы жили на втором этаже, окна все намертво были забиты; никогда не уходили. Из квартиры все уехали. Квартира была коммунальная. Там четыре комнаты было. Мы перебрались в самую маленькую комнатку — моей тетки. А во всех остальных комнатах мы потихонечку выламывали пол. Полы уже не помню: паркетные были или простые, крашеные? И мы жгли. Книг у нас было не очень много, и их жалели жечь. Остались у нас одна кровать, стулья и диван. На диване три каких-то подушечки и валики, их тоже постепенно сожгли, там была стружка. Откуда появилась «буржуйка», кто ее принес, когда мы ее купили? Я не помню. Небольшая «буржуечка». Мы так мелко-мелко резали хлеб долечками маленькими и на ней сушили, просто прилепляли. Хлеб-то был клейкий такой. Эти сухарики и жевали.
— Хлеб водянистый, а есть его было лучше сухим? Почему?
— Потому что так дольше сохранялся вкус хлеба…»
А бывшая работница ленинградского радио Александра Борисовна Ден, рассказывая, показывала:
«Вот здесь у нас была времянка, и паркет испорчен до сих пор… Сначала полки с кухни пошли, кухонные столы. А потом пошла мебель вообще».
Владимир Рудольфович Ден, сын Александры Борисовны, тоже вступил в беседу: «Разговоры о еде, по-моему, считались непристойными. Люди хорошо научились, придя к кому-то в дом, вести себя так, как будто они ну совсем есть не хотят. Можно было при постороннем человеке есть, хотя это считалось, в общем-то, дурным тоном. Да, но можно было, и люди очень искусно притворялись, что они не хотят…»
Это наблюдал, подметил, запомнил он, тогда еще мальчик.
«— Еще не касались вопроса, на чем готовили, — напомнила Александра Борисовна.
— Книжки я жег собственноручно, причем я их старался как-то отбирать, сначала что похуже, — продолжает Владимир Рудольфович, поглядывая на мать. — Сначала всякую ерунду — то, чего я даже до войны не видел. За стеллажом оказалось много всякой ерунды — какие-то брошюры, инструкции по техническим вопросам, случайно, видно, попавшие. Потом начал с наименее интересных для меня — журнал «Вестник Европы», что-то еще было. Потом спалили сначала, по-моему, немецких классиков. Потом уже Шекспира я спалил. Пушкина я спалил. Вот и не помню чье издание. По-моему, марксовское, синее с золотом. Толстого — знаменитый многотомник, серо-зеленая такая обложка, и медальон в уголке вклеен металлический.
— А я в основном пихала в печку Шиллера, Гёте — немецких классиков, — виновато и тихо дополнила маленькая росточком Александра Борисовна.
— Жгли мебель, — продолжает Владимир Рудольфович. — Был такой гардероб старорежимный, знаете, с двумя ящиками внизу. Топили им двадцать дней. Отец был человек пунктуальный, он решил посмотреть, на сколько его хватит? Заметил. Двадцать дней топили шкафом».
Вот так нам рассказывали мать и сын, а их квартира, уцелевшие в квартире вещи, стены, обожженный паркет тоже как бы участвовали в беседе, «вспоминали».