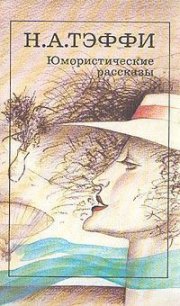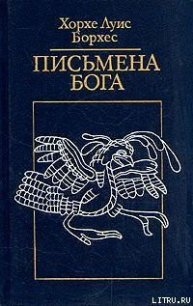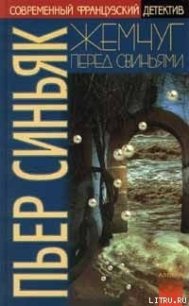Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
Коллеж, интернат, общая спальня: здесь каждый находится под взглядами других, интимное оказывается под надзором. За перекличкой, во время которой имя отводит каждому его место, следует россыпь наказаний, подчиняющих личность общим правилам. В книге «Юность: сцены из провинциальной жизни» Кутзее рассказывает о детском опыте отсутствия наказаний как своего рода несостоявшемся ученичестве: в школе, где битье — обычное дело, другие дети нарываются на порку, — но только не он. С самого детства живя «двойной жизнью», он взвалил на себя «бремя лжи». Он не такой, как другие: вот что, как ему кажется, он открыл. «При одной только мысли, что его могут высечь, он съеживается от стыда». Но этот стыд одиночки изгоняется под действием коллективного стыда, который можно разделить, — стыда побитых детей, который не проговаривается открыто, но объединяет всех во время разговоров о розгах, о боли, которую они причиняют, об искусстве учителей. Мальчик слышит, как его отец и дядья обмениваются болезненными и в то же время ностальгическими воспоминаниями об унизительном опыте, трансформировавшемся в коллективное повествование. Но сам он уже чувствует себя изъятым из этой цепи поротых поколений. В итоге именно по этой причине его и нельзя назвать нормальным ребенком: «Его никогда не пороли, и это вызывает у него чувство глубокого стыда. Он не может говорить о розгах с той же непринужденностью, что и все эти люди, которые знают, о чем говорят».
Так что же, порка — благо? Для Георга Артура Гольдшмидта, скрывавшегося во время войны в савойском интернате, огонь наказания — это ученичество, как и тот стыд, которое оно вызывает у ребенка. «Именно наказанный ребенок, так сказать, создает это слово. Загнанный в стыд, он переживает фиаско слов, но не может выразить эту пустоту; он ощущает, но не понимает ее, не находит языка, который позволил бы ему определить ее природу. Он низведен до немоты, но не в силах этого осознать. Он знает совершенно точно, но не может сказать, и даже если мало-помалу успокаивается, отчаянный страх, что ему не поверят, не становится слабее». Мы помним признание Руссо после знаменитой порки: «Я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки»[54]. Именно благодаря Руссо Гольдшмидт был «посвящен во власть стыда» и одновременно, сколь бы парадоксальным это ни казалось, в сладострастие «всепоглощающего стыда», ставшего наслаждением и радостью. Для него, как и для Руссо, это замешательство становится основополагающим, поскольку оно обозначает разрыв и дает власть над собой: «Руссо выразил все одновременно наиболее личное и наиболее непристойное: сладострастие наказания, эту непостижимую перемену знаков, которая так поражала и буквально сводила меня с ума, начиная с шестнадцати лет. Как получалось, что самая постыдная из кар внезапно уступала место такому восторгу, такому сладострастию в состоянии высшей молитвенной отрешенности, лежащему вне всякого мыслимого объяснения? Никто никогда не испытывал ничего подобного. […] Постыдные переживания и ложь, без помощи которых ребенок не смог бы пережить свой стыд, еще до всякого литературного опыта привели к смутному пониманию: можно успешно избегать того, что говорит о ком-то язык».
Но прежде чем достигнуть такой, тоже парадоксальной, власти, приходится пройти унизительной дорогой всеобщего осуждения. В действительности для ребенка, брошенного в мир, наиболее непристойным кажется стыд, переживаемый внутри себя, стыд, единственным хранителем которого он считает себя. Жизнь в коллеже обнажает мою недостойность. Разве не очевидно, что уж другие-то имеют предназначенное для них место, право находиться здесь, однозначные отношения с собственным телом? Тогда как я еле плетусь, я шпионю за собой, я явно ошушаюсебя не в своей тарелке. Когда же, наконец, я стану таким, как все? И с другой стороны, взаправду ли я этого хочу?
Томас Бернхард, новичок в национал-социалистическом интернате, католическом и нацистском одновременно, воспринимает это заточение как тюрьму для своего ума и посягательство на само свое существование. Именно там ребенок неотступно думает о самоубийстве. Тринадцати лет от роду, деля спальню с тридцатью четырьмя сверстниками, он всем телом испытывает чудовищное ощущение скученности. Бессонница заставляет его осознать всю меру своей необычности: пока другие погружены в глубокий сон, он переживает травму, которая держит его в постоянном изнеможении.
Как не чувствовать себя вечно травмированным среди собранных вместе обнаженных тел? Именно поэтому Фриц Цорн, будучи школьником, так ненавидел гимнастику: «Там мне приходилось обнажаться в самом буквальном смысле этого слова и демонстрировать свое тело, казавшееся мне уродливым. Естественно, я вдобавок не осмеливался принимать душ после занятий по гимнастике, потому что слишком стыдился своей наготы. В течение моих школьных лет к этому первому стыду мало-помалу прибавился второй: я понял, что мои товарищи явно не испытывали никакого стыда и относились к своему телу гораздо нормальнее, чем я, так что мне оставалось только признать, что они опережали меня, что в этом отношении я отставал от них, я их не стоил». В окружении других, при постоянном столкновении и сравнении с ними, обнажении перед ними, чувство стыда укрепляется, удваивается за счет одиночества, становится основой душевного состояния, которое воспринимается как не похожее ни на чье другое.
Говоря о Рембо и Жарри, Жюльен Грак упоминает «разрушительное злопамятство по отношению к проклятым местам (таким, как Шарлевилль и Ренн), где томилась в заточении их юность». Значит, интернаты и прочие навязанные места коллективного проживания — не что иное, как душегубки? машины для обезличивания? Но индивидуальность порой нуждается в препятствиях: против чего должна она восставать, как не против окружающего конформизма? Необъятное визионерское воображение может стать прочнее благодаря коллективному унижению и принуждению; случается, что индивидуальность выковывается именно там, где ее стараются подавить, в тесноте пансионов. Вспомните Бальзака (который в восьмилетием возрасте был изгнан в коллеж с очень суровыми порядками, засыпан наказаниями, многократно запирался на несколько дней в карцере), Лотреамона, Рембо, Цорна, Мишо, Бернхарда, Поуиса, Модиано… Или, скажем, Бодлера, внезапно отброшенного далеко от матери ее новым замужеством, отправленного в пансион у Лазегов и написавшего по этому поводу: «Может быть, это благо — оказаться обнаженным и депоэтизированным: яснее понимаешь, чего тебе не хватало». И кто когда-нибудь сможет рассказать, что пережила Маргерит Донадьё, будущая Дюрас, в сайгонском пансионе, обойденном примечательным молчанием в ее в высшей степени автобиографической книге?
Опыт стыда в окружении других как свидетельства необыкновенного писательского призвания: вот о чем с такой точностью рассказывает Джон Каупер Поуис. В пансионе школы в Шерборне ребенка терроризировала толпа смутьянов, распахнувших настежь «священные врата» его учения: «К вечному моему стыду (толпа и поныне внушает мне непреодолимый страх), испуг пригвоздил меня к месту. […] Быть неспособным пустить в ход кулаки для необходимой обороны, неспособным прийти в ярость на глазах у всех, неспособным с честью выйти из ситуации, которая требовала лишь проявить немного естественной храбрости — от осознания всего этого почва ухолила у меня из-под ног как никогда раньше».
Как выбраться из этой ситуации? И вдруг на него снисходит озарение: он произнесет защитительную речь перед всеми своими соучениками. «Да, да, именно так: я буду защищаться, признаваться, я выкуплю себя словами!» Перед собранием учащихся он раздевает себя донага, выставляет напоказ свои унижения, беды, проступки, доходит до того, что упоминает о своей неприятной манере жевать передними зубами. Поток слов бьет ключом из его безволия, «глупости», подавленной гордыни. Неслыханное событие, «повергшее учеников в шок». Окончание его речи было встречено мертвой тишиной, за которой последовал гром одобрительных возгласов. Покоренная аудитория должна была выразить себя через отношение к нему. Именно так, уверяет Поуис, он и «стал поэтом» — «между звездами и писсуаром». Поверим ему на слово, точнее, на писание. Рассказ Поуиса — прекрасная притча о превращении стыда в литературу. Унизительный опыт умирает в стихотворении, которое (как у Яромила, героя романа Кундеры «Жизнь не здесь») становится «чаемой возможностью второй жизни».