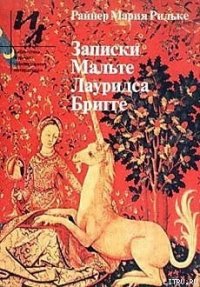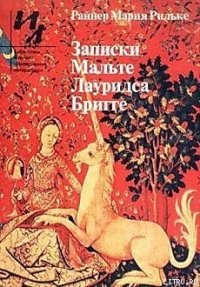Искушение чудом («Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы) - Мыльников Александр Сергеевич (читаем книги txt) 📗
Факты свидетельствуют, что в политике правительства Петра III отразился (успел отразиться!) и интерес к южным славянам, основная масса которых находилась под османским игом, а отчасти — под властью Венецианской республики и Австрийской монархии. В крайне сложном положении была Черногория, зажатая между османами и венецианцами. Понятно, что балканские славяне видели в лице родственной по языку и вере России своего заступника, а в лице императора — своего покровителя. Со всей очевидностью это обнаруживает послание черногорских митрополитов Саввы и Василия, направленное 6 апреля на имя Синода. Они просили защиты от происков Венеции, которая натравливала на Черногорию султанские войска и вмешивалась в дела местной православной. церкви. «Ныне, — говорилось в послании, — вздумали венециани и начели российским печатом на славенски церковние книги печатит униятски, чтоби российская имена не било в славенском здешнем народе, черногорском и делматинском, сербском и болгарском и харвацком». Авторы послания просили Синод от имени императора «писмено учинить представление оной Венецианской республики, да престанут от оного тиранства к право(сла)вним архиереям и народу черногорскому» [126, с. 262–263]. На документе сделана пометка: «Докладывано ноября 1-го 1762 г.», т. е. уже при Екатерине II. Однако встречный демарш по черногорскому посланию был сделан еще при Петре III, причем довольно скоро — уже в конце мая.
Сведения об этом мы нашли в донесении русского посланника в Вене Д. М. Голицына на имя Екатерины от 23 июля 1762 г. Он сообщал, что «во время прежнего правления» рескриптом 30 мая ему было поручено вручить венецианскому посланнику в Вене «промеморию по причине претерпеваемых греческого исповедания народом великих от римского священства обид и притеснений». Далее Голицын извещал об ответе: «…в рассуждении заступления Российско-императорского двора» власти Венецианской республики «вновь отправили указы с повелением, дабы впредь ни малейшие обиды и притеснения чинены не были» [1, 1762, № 398, л. 23–23 об.]. Хотя указы, как видно, рассылались только в пределах венецианских владений, слухи о демарше России не могли миновать соседней Черногории и прилегающих славянских областей Османской империи. Это способствовало и популяризации императора, тем более что его имя было созвучно имени Петра Великого, авторитет которого в южнославянской среде был в XVIII в. очень высок.
Екатерина II, судя по тональности донесения, о заявленном протесте не знала. Иначе Голицыну не потребовалось бы излагать предысторию венецианского ответа, деликатно именуя царствование Петра III «прежним правлением».
Столь быстрая и решительная реакция на послание черногорских митрополитов заставляет задуматься о многом. В частности, о возможных намерениях правительства Петра III относительно политики в османском вопросе. Известно об этом немного. Да и неудивительно: «прежнее правление» было слишком непродолжительным, чтобы подобные намерения могли вылиться в сколько-нибудь отчетливые планы. Но в существовании таких намерений едва ли можно сомневаться. Сошлемся вновь на хорошо известный и опубликованный «во всеобщее сведение» указ о коммерции, в котором подчеркивалось, что «нет государства в свете, положение которого могло б удобнейшим образом быть к произведению коммерции, как нашего в Европе». Далее, в частности, говорилось, что у России «в самый Египет и Африку по Черному морю, хотя еще неотворенная, но дорога есть».
Как красноречиво это слово «еще»! Ведь исконная и жизненно важная для экономики страны дорога через причерноморские степи была на несколько столетий «затворена» Османской империей и ее сателлитом Крымским ханом. «Отворить» ее было невозможно без борьбы с ними. А это полностью совпадало с интересами славянского населения Балкан, издавна ожидавшего помощи от России для своего освобождения от иноземного ига. Сложное переплетение этих факторов потенциально создавало для правительства Петра III необходимость в недалеком будущем серьезно заняться славянским вопросом. В сущности первые признаки этого уже имелись. И хотя они были еще скромными, но начало было положено. И потому в зарубежной славянской среде, прежде всего у южных славян, возникали новые надежды, в отголосках сопряженные с именем Петра III.
Не следует, конечно, ни идеализировать, ни преувеличивать сделанного за недолгих 186 дней. Но, характеризуя в самых общих чертах ведущие тенденции внутренней и внешней политики правительства Петра III, можно обнаружить в ней несомненные признаки курса «просвещенного абсолютизма». «Так называемый Век Екатерины, — подчеркивал С. О. Шмидт, — начался по существу еще за несколько лет до ее восшествия на престол» [163, с. 58]. И, добавим мы, указанная особенность своеобразно преломлялась в содержательных представлениях народного самозванчества при поразительном порой сопряжении круга связей со своим окружением настоящего Петра Федоровича и тех, кто себя за него выдавал.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
— Все ли спокойно в народе?
Нет, император убит.
Кто-то о новой свободе
На площадях говорит.
В народном сознании день переворота 28 июня 1762 г. и ближайшие к нему дни стали важной точкой отсчета. Самой легенды о чудесном спасении Петра Федоровича еще не существовало. Но мыслительный материал для ее создания заквашивался именно тогда.
Позднее Екатерина II уверяла, что перед ней в то время стояла дилемма: «Или погибнуть вместе с полуумным, или спастись с толпою, жаждавшею от него избавиться» [121, с. 6]. Это была ложь, но ложь убедительно звучавшая и принесшая обильные всходы. Ей поверил даже такой авторитетный историк XIX в., как С. М. Соловьев. Он характеризовал заговор Екатерины Алексеевны как следствие «всенародного недовольства» [144, т. 13, с. 76–78]. На самом деле было наоборот: события 28 июня явились следствием не спонтанного акта народной самозащиты, а длительно готовившегося замысла.
Еще в последние годы царствования Елизаветы Петровны в узком кружке придворной знати обсуждался план высылки Петра Федоровича в Голштинию, объявления наследником престола малолетнего Павла с установлением регентства Екатерины. Однако план этот многих не устраивал, в первую очередь предполагаемую регентшу. Ведь с первых же дней приезда в Россию она мечтала водвориться на троне сама. И когда в конце 1761 г. капитан гвардии М. И. Дашков, муж Екатерины Романовны, предложил великой княгине возвести ее на престол, то в ответ услышал слова, которые позднее сама Екатерина воспроизвела в мемуарах с предельной откровенностью: «Я приказала ему сказать: „Бога ради, не начинайте вздор; что бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и не созрелая вещь“» [68, т. 12, ч. 2, с. 500]. Запомним эту отсылку к божественному промыслу — вскоре это Екатерине сослужит службу. Да, как умный и коварный политик она чувствовала, что в декабрьские дни 1761 г., когда медленно угасала Елизавета Петровна, захват чужого престола и в самом деле был бы воспринят как «не созрелая вещь». Но надлежащие выводы Екатерина сразу же сделала. Выть постоянно начеку, провоцировать Петра, превосходно зная его характер, на неосторожные и непопулярные действия, а одновременно обрабатывать исподволь в свою пользу влиятельных сановников и гвардию, дожидаться подходящего момента и, выбрав его, нанести удар — вот тактика, которой стала придерживаться Екатерина с первого же дня восшествия на престол своего супруга.
Спустя 16 лет после июньских событий опальный наследник престола Павел (ему шел 24-й год) делился мыслями с П. И. Паниным о причинах свержения своего отца. «Здесь, — писал он, имея в виду кончину Елизаветы Петровны, — вступил покойный отец мой на престол и принялся заводить порядок; но стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за оный; прибавить к сему должно, что неосторожность, может быть, была у него в характере, и от ней делал вещи, наводившие дурные импрессии, которые, соединившись с интригами против его персоны, а не самой вещи, погубили его и заведениям порочный вид старались дать». Трудно сказать, какие чувства испытывал при чтении этих строк родной брат одного из главных противников Петра III. Но Павел Петрович рассуждал намного глубже и основательнее, чем несколько поколений последующих историков [89, с. 580].