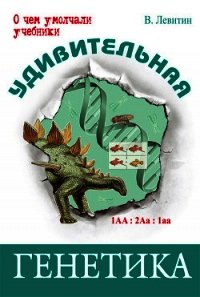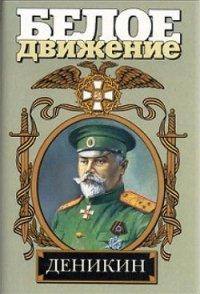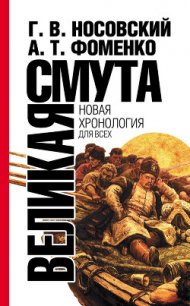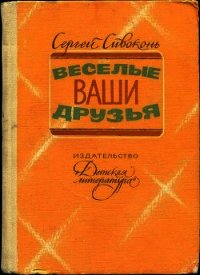Очерки по истории русской церковной смуты - Краснов-Левитин Анатолий Эммануилович (читаем бесплатно книги полностью TXT, FB2) 📗
Полусумасшедший пьяница, диакон Рождественский — лишь немногим отличающийся от о. Андрея, — А.А.Введенский, также служивший диаконом (агент КГБ и в прошлом уголовник), и еще несколько причетников довершали картину.
Справедливости ради, надо отменить, что на этом же фоне промелькнуло все ж два порядочных человека. О. Иван Андреевич Попов — бывший учитель, пришедший в Церковь по призванию, глубоко религиозный человек, рукоположенный А.И.Введенским в священника, и Владимир Александрович («Володя») — третий сын А.И.Введенского — добрый, бесхитростный мальчик, служивший в это время диаконом — представляли собой некоторый — на темном мрачном фоне обновленческих подонков — просвет.
Сам А.И.Введенский находился в это время в состоянии тяжелой моральной депрессии, — наступил саиый страшный, тяжелый период его жизни. Его проповеди — ничем не напоминавшие прежнего А.И.Введенского, собирали, однако, огромное количество людей: искорки гения, хотя и потухшего и почти бессильного, все же согревали людские души.
Последние два года жизни А.И.Введенского — это период непрерывной тоски и непрерывных унижений.
Оставшись совершенно один, теснимый со всех сторон, А.И.Введенский сделал в это время несколько попыток примирения с Церковью. Эти попытки, совершенно бесплодные, лишь отравили его душу, унизили его в собственных глазах.
Первоначальная попытка была сделана А.И.Введенским на Пасху 1944 года, когда он послал пространную телеграмму патриарху Сергию. Патриарх упоминает об этой попытке в одном из своих писем епископу Александру, напечатанном в книге «Патриарх Сергий и его духовное наследство». М. 1947 г.
«А.И. Введенский решил сделать нечто великое или, во всяком случае, громкое, — пишет патриарх, — прислал мне к Пасхе телеграмму: «Друг друга обымем» — себя именует руководителем меньшинства в православии, меня — руководителем большинства. Телеграмма подписана: доктор богословия и философии, Первоиерарх православных церквей в СССР. Я ответил: А.И.Введенскому. За поздравление благодарю. Воистину Воскресе. Патриарх Сергий. Дело, мол, серьезное и дурачиться не полагается…» (стр.228).
Перед Собором 1945 года А.И.Введенский через Карпова пытался получить приглашение на Собор — тщетная попытка. В дни Собора А.И.Введенский делал несколько попыток встретиться с прибывшими в Москву Восточными Патриархами, Снова неудача. Наконец, после Собора, А.И.Введенский капитулировал: помянул на Великом Входе патриарха Алексия и стал публично молиться об успокоении патриархов Тихона и Сергия.
В июне 1945 года он написал письмо патриарху Алексию. Начались тягучие, заранее обреченнные на неудачу, переговоры с патриархией.
Получив приглашение, А.И.Введенский в белом клобуке, в панагии направился в Чистый переулок, в патриархию. Патриарх Алексий, однако, его не принял: он в это время сидел в саду и не вышел к посетителю. А.И.Введенского принял Н.Ф.Колчицкий. Любезно показав гостю помещение патриархии, Н.Ф.Колчицкий усадил его в зале, — начались переговоры. Первоначальный проект А.И. Введенского — быть принятым в сане епископа (причем А.И.Введенский изъявлял готовность изменить свое семейное положение) отпал сразу. Тогда был выдвинут новый проект: вопрос о сане оставить открытым и принять А.И.Введенского в качестве профессора Духовной Академии. Однако и этот проект не удовлетворил Н.Ф. Колчицкого, разыгравшего из себя этакого «неусыпного стража Православия». Он потребовал покаяния. На этом первое свидание было окончено. В ближайшие месяцы у А.И.Введенского появился сильный союзник — митрополит Николай, который высказывался за компромиссное решение. Однако твердокаменная преданность православию Н.Ф. Колчицкого, видимо, думавшего, что, таким образом можно заставить людей поверить в его идейность (Н.Ф.Колчицкий и идейность! [72]), и глухая антипатия патриарха, оставшаяся с 1922 года, — сделали свое дело. В сентябре Колчицкий объявил по телефону окончательное решение. А.И.Введенский после покаяния может быть принят лишь мирянином, и единственное место, которое ему может быть предоставлено — это место рядового сотрудника журнала «Московский патрархии».
Все было кончено: судьба А.И.Введенского была определена: отныне он был осужден на полное одиночество до конца своих дней.
При характере Александра Ивановича, при его потребности в триумфах, при его жажде разнообразия — это был смертный приговор.
И вскоре наступила смерть.
Тревожные симптомы, говорившие о тяжком забопевании, обозначились еще в Ульяновске — осенью 1943 года. «Гипертония в тяжелой форме», — таков был диагноз, поставленный ульяновскими и подтвержденный московскими врачами. Тяжелые переживания, связанные с распадом обновленчества, тяжелые семейные неурядицы, при нервной, импульсивной натуре Александра Ивановича, усилили болезнь: в ночь на 8 декабря 1945 года его разбил паралич.
Очень медленно стал он поправляться после удара. Я видел его во время болезни трижды. Я пришел к нему Великим Постом в 1946 году, он принял меня ласково, и невесело провел по комнатам, указал на постель. «Вот мой враг», — сказал он, — как ужасно лежать здесь одному, бессонной ночью — как ужасно!» — повторил он еще раз. Грустен он был и на Пасху. Он служил (несмотря на болезнь) всю Страстную неделю, а на Пасху не мог. Он вышел ко мне в светлом праздничном костюме.
«Христос Воскресе» — сказал он и тут же прибавил: «Последняя Пасха».
Особенно врезалась в память последняя наша беседа — 20 июня 1946 года. Мы сидели с ним в саду, он в глубоком плетеном кресле, я — около, на скамеечке. Он был настроен нервно и все время метался, порывался куда-то идти. Болезнь страшно изменила его, — передо мной сидел уже старый, седой человек.
Речь его, больная и путанная, однако, сверкала блестками таланта, — того чудесного таланта, который всегда так радовал собеседника.
«Я предпочитаю общество автомобилей обществу людей, — бросил он мельком, — уж они-то не меняют своих убеждений», — и, чувствуя на себе насмешливый, скользящий взгляд собеседника, я смущенно ответил «Но ведь они и не любят, и не привязываются, владыко».
«Да, да, это правда, не любят и не привязываются А вы меня любите?» — глаза смотрят также насмешливо и иронически, — теперь прямо в упор.
Серьезно и несколько смущенно я отвечаю: «Да, люблю», — и начинаю говорить о том, как много значил он в моей жизни и что он был предтечей того, кто еще должен придти, и вдруг смущенно замолкаю, заметив, что употребил глагол «был».
«Ну, да, да!» — отвечает он, — «Лютер пришел не сразу. У него были предшественники», — замечает он, делая ударение на «были».
Чтобы переменить тему разговора, я рассказываю, как недавно я прочел его юношескую работу: «Причины неверия русской интеллигенции» и о самом впечатлении от нее. Он внимательно слушает, опускает голову и его побледневшие губы произносят латинскую фразу: «Я сделал, что мог, кто может, — пусть сделает больше».
После обеда быстро прощаюсь, чтобы не утомлять больного.
Провожает меня до дверей — и в дверях обнимает, трижды целует, а я целую его руку: чудесную тонкую руку, руку пианиста, артиста, гения, теперь — слабую и жалкую, бормочу что-то нечленораздельное, чувствуя комок, подступивший к горлу.
Он снова меня целует и бледные губы шепчут: «В последний раз!». Он умер 25 июля 1946 года в жаркий летний полдень. За несколько дней до смерти был новый последний уже удар.
Он был в сознании до самой последней минуты и смотрел прямо перед собой блестящими, осмысленными глазами.
«Хотите причаститься?» — спросил священник, о. Иоанн Попов.
«Хочу», — твердо ответил он — и до последней минуты все смотрел куда-то вдаль, как бы всматриваясь в наступающую новую жизнь.
26 июля я видел его мертвого. На смертном одре он снова помолодел, — и теперь был почти таким, каким был в последние годы. Белый подрясник, епитрахиль и малый омофор (он еще не был облачен), густые, черные ресницы и печать тихого раздумья на челе, — такое лицо у него было во время наших вечерних волжских прогулок, во время задушевных дружеских бесед.