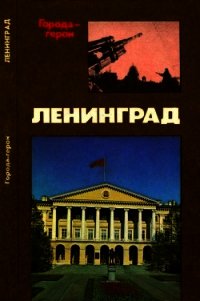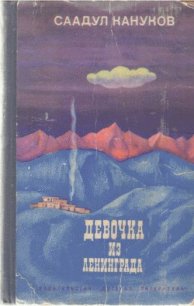Блокадная книга - Адамович Алесь Михайлович (книги полностью txt) 📗
— Сколько же за день регистрировали?
— Очереди стояли. Я не одна работала, трое. В день я человек по сто пятьдесят регистрировала. Работала в декабре и январе. Люди стояли истощенные, жалко было их. И мы старались скорее их отпустить. Причем слез у них не было. Я тогда после работы возвращалась домой. А у меня еще семья брата жила (брат был на фронте): жена его жила и ребенок у нее был. Ребенку четвертый год был (сейчас он диссертацию уже защитил, тот ребенок). Приду, бывало, домой, а он лежит на кровати все время, потому что от холода и голода другое что-нибудь придумать и сил не было. На нем такая была одета рубашечка с длинными рукавами, чтобы было потеплее. Вот он встанет в рубашечке и спрашивает: «Тетя Лена, ты хоть кусачек хлебца принесла мне?». Я скажу: «Нет, не принесла». Потому что у меня у самой ничего не было. По карточкам мы получали то, что нам было положено. Я со всей семьи собирала карточки, пойду в булочную и принесу. Ходила всегда только я одна, потому что остальные были не в состоянии ходить, все были старше меня по возрасту. Вот ребеночек каждый раз спрашивает: «А ты мне что-нибудь принесла?» Смотреть на ребенка было жалко. Сравниваешь сейчас вот с детством наших детей, когда яблоки даешь им и они еще не хотят кушать. А тогда даже хлеба не было!
— А брат?
— На фронте был, вернулся. Правда, ранение перенес тяжелое, но ничего. И сейчас он жив… «Ты мне хоть корочку хлебца принесла?» — он спрашивает. Такой тощенький, одни косточки. И в этой белой рубашечке, ну просто как смерть какая! А идешь домой, стучишь (звонки-то не работали) и каждый раз думаешь: ну, сейчас откроют и скажут, что кто-то из семьи умер, потому что тогда смертность была сплошной, поголовной. Напротив нас, на одной площадке, жили артисты из театра имени Кирова, Никольские. Прихожу домой после работы вечерком, и вдруг этого артиста выносят из квартиры мертвого. А тогда ведь уже гробов не делали, просто вот так в простыню завернут человека и выносят на мороз… После этого, в феврале, а может быть, в конце января я была переведена райкомом партии в комиссию по эвакуации населения. Была техническим секретарем. Выдавала документы, выписывала направления на ту сторону «Дороги жизни», через Ладожское озеро переехать.
— В Кобону?
— Да. И выдавала им карточки или такие талоны на питание. Чтобы они тут же на берегу Ладожского озера получили уже питание… Были мы там же, в Кировском райсовете, но в другом кабинете, комната двести шестьдесят. Там уже стояла печурка, которую мы немножко подтапливали. Но дров не было, так мы мебель жгли, оставшуюся там, стулья старые, лишние письменные столы, шкафы, ломали мебель, какая была неважная. А после мы дрова добывали сами: ходили ломать деревянные дома. В саду «Девятого января», рядом, помню, я ломала. Для отопления райсовета и вообще для населения района, чтобы немножко люди в тепле были.
— А жителей деревянных домов переселяли, или они были уже пустыми?
— Да. Никого не было. Мужчины на фронт ушли, а женщины какие умерли от холода или голода, какие были уже отправлены на Большую землю. Некоторые были переведены в каменные дома, более теплые. И вот когда я в комиссии по эвакуации работала, не могу забыть такой случай, когда ко мне пришел один мужчина знакомый. Он был близким приятелем моего первого мужа. Помню, когда они окончили Кораблестроительный институт и вместе работали на Адмиралтейском заводе, они очень любили красиво одеваться. Там они зарабатывали большие деньги и одевались хорошо, как один, так и другой. И вдруг этот моего мужа приятель приходит ко мне чумазый, страшный, я его вначале и не узнала. Он пришел получить документы на эвакуацию на себя и на свою мать. Мать-старушка, говорит, умирает от голода. А тогда было указание, чтобы всех стариков вообще вывезти из Ленинграда, потому что кормить нечем. Вот стариков и детей в первую очередь вывозили. Я не знаю, по какой причине он не был в армии, может быть, по состоянию здоровья. Но он пришел страшный, весь в копоти, закопченное лицо, в таком женском платке, то есть косынка шерстяная поверх пальто была какая-то завязана, и вот так воротник поставлен, и лицо чуть-чуть видно. Я когда документы ему стала выписывать, посмотрела и думаю: боже мой, ведь это хорошо знакомый человек, товарищ моего мужа, молодой человек, только что окончивший институт. Ему было лет двадцать семь, наверно, а тут он выглядел как старый-старый старик. Я выписала документы на него и на его мать. Он говорит: «Я сначала маму повезу до Финляндского вокзала на санках, а потом она меня тоже, может быть, немножко повезет». Он был тоже очень ослаблен от голода. Сменяя друг друга, люди себя довозили до Финляндского вокзала, а там их везли дальше через Ладожское озеро, по «Дороге жизни». И вот помню — я уже впоследствии узнала, — что он даже не доехал до Ладожского озера, он по дороге скончался, и он и его мать скончались от голода и холода».
Про то, как умирали рядом самые близкие люди, нам рассказывали мало — или потому, что помнят как сквозь туман, или рассказывать слишком больно. Зато много про то, как хоронили.
Жестокая правда обстоятельств, условий, беспощадная правда чувств (и голодного бесчувствия) мучит и поныне блокадника. Но было то, что было…
«Когда он лежал, я думала только об одном (мне не жаль его было): «Если он умрет, как я его буду хоронить?» Все хоронили как-то за хлеб, а у меня хлеба нет. И когда я выходила и видела этих покойничков, которых везли, я думала, что мне же, во-первых, не обшить его вот так, на саночки не положить. Но для меня было самое страшное — похороны, а то, что он умрет, — я об этом не думала…» (Рогова Нина Васильевна, учительница, ул. Братьев Васильевых, 19).
Выполнить перед умершим последний долг в тех условиях было нелегко. Многим просто не по силам. И не по средствам, если собственных сил не хватало. Похороны были проблемой. Рассказы о похоронах порой мучительней, чем рассказы о смерти. Но одно тут неотделимо от другого.
Все силы любви, горе потери близкого человека — все уходило в стремление хотя бы похоронить, раз уж нельзя было спасти. Люди оставались людьми. Киреева Ирина Алексеевна вспоминает, как хоронила она свою няню на Волковом кладбище:
«— Вспоминаю, как, разбивая эту мерзлую землю ломами, долго-долго два бойца никак не могли проломить, потому что там оказался цементный склеп. Наконец они кое-как втиснули этот гроб.
И вот мольба какой-то женщины: умоляла положить в эту же могилу ее дочь. Она ее привезла. Буквально снимая с себя все, что было, она умоляла, чтобы вот туда похоронили и ее дочь. Сама она еле держалась на ногах».
Людмила Алексеевна Мандрыкина, историк, работник Центрального государственного военно-исторического архива, рассказывает:
«— А потом наступило то, что у всех, — голодный ноябрь, голодный декабрь. Это сорок первый год. Здесь начались потери очень большие. Здесь умер Алексей Алексеевич Шилов. Это был один из основателей архивного дела в СССР.
— Как он умер?
— Как умер? Заболел, обессилел. Мы же все получали вторую категорию — карточки служащих, Алексею Алексеевичу в то время было шестьдесят лет. Жил он, как и все мы, на казарменном положении. Он работал в Историческом архиве (это одна система), жил в подвале. И вот он просто заснул, как засыпали почти все, которые умирали от голодной дистрофии. Через некоторое время мы положили его на саночки и, так как не было никакой возможности хоронить на кладбище, свезли его в такое огороженное забором место, где Новая Голландия. Знаете? Туда привозили умерших на санках, с гробами, без гробов — в каком угодно виде. Это было официальное место. Тут сидели, дежурили два-три человека. И потом машинами эти трупы вывозили.
— А у Спаса-на-крови как хоронили?
— А около Спаса-на-крови было совершенно иначе. Сюда просто привозили мертвых. Тоже очень много у аптек сажали — полумертвого человека или совсем мертвого.
— Возле аптек? Почему именно у аптек?
— Я думаю, потому, что раньше тут все-таки всегда оказывалась медицинская помощь. Около больниц тоже сажали: Не было сил, не было возможности довезти куда-то еще. Мы вот так Алексея Алексеевича свезли. А где он похоронен? Меня много раз спрашивали ленинградские ученые: «Где похоронен Шилов?» Не знаю… А потом умер Михаил Ильич Ахун. Это был очень крупный военный библиограф. Мы повезли его на Смоленское кладбище, но довезти уже не могли. Так и оставили гроб в снегу на полпути. Это январь. А второго марта умерла мама. Это мое личное, но я вам хочу рассказать, что получилось. Когда умерла мама, у меня был какой-то идефикс. Мама умерла второго марта. А карточку ей дали накануне. Карточка была иждивенческая. Мама тоже заснула. Мама моя жила очень близко от Военного архива; на улице Герцена, дом один, я работала, а на Герцена, одиннадцать, жила мама.