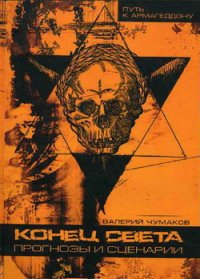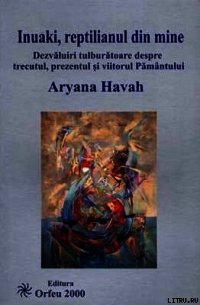Тайны, догадки, прозрения (Из истории физиологии) - Яновская Минионна Исламовна (книга бесплатный формат txt) 📗
Но вот кролику ввели снотворное — нембутал. Спокойное «тахтанье» становится все глуше, звучит реже, исчезает. Потом последний прерывистый «вдох» и — клетка замирает. Она «уснула». Осциллограф чертит прямую линию. Нембутал осел в исследуемом участке ретикулярной формации.
Что и следовало доказать.
Исследуются другие клетки — ведут они себя по-разному: одни излучают редкие импульсы, 10–12 в секунду; другие — до 200. Одни щелкают, другие трещат, третьи шипят, и каждая разновидность звука характеризует разновидность клеток и их функций.
Различные по качеству клетки неоднородной деятельности, по-разному реагирующие на химические вещества, — вот какой пестрой оказалась ретикулярная формация. А раз химические лекарства действуют избирательно на строго определенные группы клеток, управляющие строго определенными «работами», значит и влияние ретикулярной формации на кору мозга тоже избирательное, специфическое.
Каждая клеточка мозга — это «чек на предъявителя». Связанная с определенной мышцей, она может проделывать множество манипуляций: спускать курок ружья, писать любовные письма, заводить мотор машины, играть в хоккей, укачивать ребенка. Центральная электростанция подает ей ток — всякий раз другой силы и напряжения.
А что было бы, если бы электрический ток постоянно и одновременно снабжал мозг одной и той же энергией, не считаясь с тем, для какой цели она нужна? Тогда бы все клеточки «хором» и каждая из них в отдельности проделывали все многочисленные, совершенно не похожие друг на друга операции. А мозг в целом был бы лишен главной своей особенности — уменья различать обстановку, предметы, задачи. Довольно нелепая картина и совершенно не соответствующая действительности!
…Испуганное животное бежит от опасности. Бег и чувство страха отнимают массу энергии. Она поступает из ствола. Если бы воздействие ретикулярной формации было биологически неспецифическим, одновременно с испугом животное должно было бы, скажем, выделять слюну, испытывая голод. Между тем испуганное животное в минуту опасности менее всего склонно к еде: ему бы спастись от врага. В это время даже самая вкусная пища не выжмет из него ни капли слюны и не остановит бега.
Электроэнцефалограф показывает: в момент оборонительной реакции у животного действительно повышена активность коры мозга, но пищевой рефлекс при этом не возбужден.
Тонкость биологической регуляции поразительна! Экспериментаторы убедились в этом.
Собаке ввели успокаивающий препарат аминазин. Микроэлектроды показали, что аминазин парализовал определенные группы клеток ретикулярной формации. Перед собакой поставили кормушку и одновременно пустили в одну из лап электрический ток. Собака спокойно поедала пищу, даже не пытаясь сбросить с лапы провод: она совершенно не чувствовала боли. Но вот, в повторном опыте, аминазин заменили уретаном — собака заснула. Однако и во сне она реагировала на боль.
В первом случае аминазин выключил в ретикулярной формации группу клеток, и она, в свою очередь, отключила в коре мозга реакцию на боль. Во втором — уретан подействовал на другие клетки — «электростанция» включила сон, но не выключила участки коры, ведающие болью.
Именно потому, что ретикулярная формация оказывает избирательное воздействие на кору головного мозга, нейрофармакология — наука о лекарственных веществах, действующих на центральную нервную систему, имеет физиологическую основу.
Тот же аминазин, который широко используется для лечения психических заболеваний, обладает двояким свойством: одни клетки ствола мозга он подавляет, другие возбуждает. И возбуждает как раз те, которые считаются «очагами эпилепсии». Так что лечение аминазином может вызвать приступ до того скрытой эпилептической болезни. Правда, теперь фармакологи в состоянии искать более тонкие воздействия препаратов — скажем, такие, которые будут успокаивать нужные клетки, не возбуждая при этом другие.
Фармакология нацелилась на психические состояния, вызванные целым комплексом нервных процессов. «Прицел» у нее в руках оптический, точный, дающий возможность делать ювелирную работу: создавать лекарства, способные убивать страх, тоску, чувство тревоги и другие отрицательные эмоции. Для психоневролога не безразлично, каково происхождение чувства тоски у пациента: тоска, связанная с неудачной любовью, и тоска, вызванная неприятностями на работе, это, как говорится, две разных тоски. Ощущения по своей химической природе совершенно различные — можно подобрать лекарство, которое убьет одну тоску, оставив неприкосновенной другую…
Но это уже район эмоций — район другого рассказа.
Сплю, но вижу

Видите ли вы цветные сны? Я — да. С некоторых пор.
Лет пять назад научное студенческое общество Казанского университета разослало писателям вопросник: видите ли вы цветные сны, какой цвет в них преобладает, как часто они вам снятся и еще что-то в этом роде. Поскольку положительного ответа я дать не могла, я не ответила вовсе. Но студенты были настойчивы: через несколько месяцев снова прислали вопросник, через год — опять. После четвертого напоминания я уже видела цветные сны… Уговорили!
Синие, желтые, светло-сиреневые — каких только не было тонов! А привычные — черно-белые, совсем исчезли. Скоро, правда, цвета изменились — когда моя внучка пошла в первый класс. Солнечный, оранжевый цвет превратился в красный, и виделся мне нечасто — красным ставили «пятерки»; голубой стал ядовито-зеленым: зеленые были «двойки», и их почему-то первоклассникам записывали по нескольку штук в день. Изумленные дети, ровно ничего не понимая еще в оценках, даже радовались, когда тетрадь пестрела зеленым цветом — им он нравился… Вернулись и черные сны — черным писали в дневник замечания за провинности: повернулся на парте, поднял упавший карандаш, вытянулся, устав от сиденья в непривычной позе…
Эти сны преследовали меня еженощно, и я совершенно не высыпалась. Зачем уж моему мозгу понадобилось перерабатывать как раз эту информацию, какая в этом была целесообразность — понять не могу.
Ученые доказали — я сейчас об этом расскажу, — что человек не может полноценно отдохнуть во сне, если его лишают сновидений. Но мои сновидения как раз и оставляли меня не отдохнувшей, просыпалась я совершенно разбитая. Несмотря на то, что сны были цветными.
Рассуждение, конечно, обывательское — да простят меня ученые люди, — но только мне кажется, что дело не в любых, а в приятных сновидениях. Странным кажется мне и утверждение, что сны — это переработка недавнего прошлого, для отбора той информации, которую нужно почему-то запомнить. А я вот недавно видела во сне пьяного человека, которого вели в вытрезвитель. Для чего мне запоминать эту информацию? Я не пью, в семье моей никто вином не интересуется… И вообще, я лично чаще вижу сны на будущее: прекрасный курорт на юге, куда я летом поеду с внучкой, и даже во сне я удивляюсь, что сюда «пускают» с детьми! Или, например, мне снится текст будущей книги — прямо целые страницы отличного текста, какого в жизни не бывает…
Может быть, у меня какая-то аномалия в смысле сновидений, но только мой личный опыт не подтверждает большинства теорий по этому поводу…
«Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони и глухие, хриплые звуки вылетали из напряженного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку…»