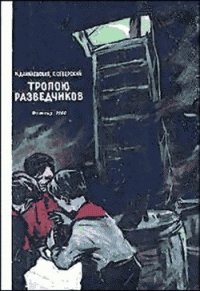Пермские чудеса (Поиски, тайны и гипотезы) - Осокин Василий Николаевич (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
Полковник усмехнулся.
— Песню он, говорят, какую-то сочинил с припевом этаким…
— Какая же это песня, папаша?
— Не знаю, — отвечал полковник. Он знал, впрочем, эту песню, но не передал ее сыну, не желая заражать его вольнодумством».
По-прежнему вокруг были недороды, нищета и дикость. А между тем быть рачительным хозяином, извлекать из имения пользу Катенин не мог.
После смерти Пушкина о нем почти никто не вспоминал в среде петербургских литераторов. Катенин не писал, ибо знал, что печатать его никто не будет.
А силы требовали выхода. Врожденная гордость превращалась в манию величия. Он и раньше-то считал себя чуть ли не равным Пушкину, а теперь в своих «Воспоминаниях», за которые наконец принялся, вовсе называл себя наставником поэта.
Временами он трагически ощущал неестественность этой позы. В такие минуты совершал он бессмысленные выходки или безудержно предавался пьянству, с гиканьем и свистом скакал по обширным и чахлым полям Костромской губернии. Не желанием ли уйти из жизни объясняется эта бешеная, все чаще повторяющаяся скачка, во время которой однажды он и погиб.
Случилось это в погожий николин день 9 мая 1853 года.
— Подшутил над нами Никола… — превозмогая боль, усмехнулся Катенин.
Умирал он как воин и отказался от причастия.
Как-то, после отставки 1838 года, в часы проклятого досуга, которого у него был переизбыток, сочинил он себе заранее эпитафию:
«Павел, сын Александров, из роду Катениных. Честно отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила; зла не творил никому и менее добра, чем хотелось».
Надпись эту в конце прошлого столетия еще можно было разобрать на одном из камней кладбища села Бореева. В 1955 году прах Катенина перенесли в Чухлому, где и воздвигли новый памятник.
ОТКУДА ПРИШЕЛ ВИЙ?
2 ноября 1831 года Гоголь писал своему приятелю А. Данилевскому: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если б ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: „Кухарка“, в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные — не то что „Руслан и Людмила“, но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами — и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт… А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут».
Одно из произведений В. А. Жуковского имело весьма длинное название: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Это был перевод баллады английского поэта Роберта Саути. Впервые Жуковский ее перевел еще в 1814 году, но тогда московская и петербургская цензура стихотворение печатать запретила. Через несколько лет Жуковский попытался снова его напечатать под заглавием «Ведьма». Цензор перечеркнул стихи красными чернилами и написал: «Баллада „Старушка“, ныне явившаяся „Ведьмой“, подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над богом». И вот только теперь, в 1831 году, «Старушка» выходила в свет. Жуковский основательно ее переделал и, в частности, поместил дьявола, ожидающего свою жертву, за дверями храма.
В начале 1835 года вышла новая книга Гоголя «Миргород», и в ней среди других повестей был «Вий». Иные читатели подметили некоторое сходство между «Старушкой» и «Вием»: в обоих произведениях — смерть ведьмы, отпевание, появление нечистой силы. И вместе с тем какая разница! В балладе Жуковского — лишь «ужасная» средневековая легенда, в повести Гоголя — колоритная жизнь киевских бурсаков, а фантастические эпизоды вплетены столь искусно, что на какие-то мгновения даже начинаешь верить в них.
Но вот что интересно: Жуковский при всех своих связях столько лет бился с цензурой, не желавшей видеть дьявола в церкви, да так и не смог одолеть ее и вынужден был переделывать балладу. А Гоголь своим магическим мастерством даже свирепую цензуру заворожил! Ведь его вий вошел-таки в церковь и погубил в ней православную душу!
Какое же народное предание легло в основу «Вия», какое место «в пятидесяти верстах от Киева» описано как место гибели Хомы Брута, какой храм изображен? Уж очень ярко, до осязаемости конкретно описаны Гоголем все эти места и несколько раз даже упоминается какая-то «чухрайловская дорога», по которой ехал Хома Брут отпевать дочь богатого сотника.
…Начал с розысков украинских легенд о вие. Существа, похожего на вия, я нигде не нашел.
Где же Гоголю посчастливилось найти давно исчезнувшего вия? Может быть, это предание содержалось в одном из несохранившихся писем его матери, Марии Ивановны, которая аккуратно отвечала на каждую его просьбу присылать всевозможные легенды и поверья? А мемуары современников, не скажут ли они что-нибудь о вие? В книге «Н. В. Гоголь» (1953 г.) покойный критик В. Ермилов воспроизвел отрывок (в переводе с французского) дневника А. О. Смирновой-Россет, который, казалось бы, давно должен быть известен исследователям, но почему-то не привлек их внимания: «„Хохол“ (Гоголь. — В. О.) упрям; он не хотел притти ко мне с Плетневым; он робок, а мне хотелось поговорить с ним о Малороссии. Наконец Сверчок (Пушкин. — В. О.) и Бык (Жуковский. — В. О.) привели его ко мне… Я уверена, что северное небо давит его, как шапка, потому что оно часто бывает угрюмо. Я ему рассказала о Гопке (няня Смирновой-Россет. — В. О.), которая меня напугала вием. Пушкин сказал, что это вампир греков и южных славян, каких у нас нет в северных сказаниях…»
Важное свидетельство! Вот откуда услышал Гоголь про вия и в своей творческой фантазии соединил его с историей киевского бурсака.
Куда же, в какую сторону бредут тихим летним вечером трое бурсаков из повести «Вий»? Вот и дороги уже не видно, все покрылось туманом… И куда на третий день после столь странного приключения отправился по приказанию пана ректора Хома Брут? Он едет и думает лишь о том, как бы улизнуть. И удрал бы непременно, да после горилки ноги одеревенели. И вот его привозят в неведомое ему большое село. Какое?
Снова обращаюсь к книгам, статьям и к переписке со своими украинскими корреспондентами, дотошными краеведами, влюбленными в творчество Гоголя. В украинской литературе уже не раз упоминалось большое, стоящее на берегу Днепра поселение Прохоровка как место, описанное в «Вие». Была здесь и старинная церковь, сооруженная, по преданию, запорожскими казаками из быстролетных лодок-чаек. Есть тут и сосна, под которой якобы любил отдыхать Николай Васильевич, когда бывал в гостях у своего друга этнографа Михаила Александровича Максимовича, владевшего усадьбой Михайлова Гора. Но не был Гоголь в Прохоровке до выхода из печати «Вия», не видел этой церкви, да и в Киев-то в первый и единственный раз в жизни попал летом 1835 года (а «Миргород», напомню, вышел в начале года)!
В самом деле, с М. А. Максимовичем Гоголь познакомился в Москве летом 1832 года во время первой своей поездки на родину из Петербурга, в котором жил с 1829 года. Обычная и самая прямая дорога в его родную Васильевку пролегала на юг, то есть через Москву, Подольск, Серпухов, Тулу, Курск, Харьков и далее на запад, на Полтаву. Если бы он ехал в Киев, то после Подольска должен был бы свернуть на юго-запад, на Калугу. В письме М. Погодину от 20 июня 1832 года он упоминает, что ехал через Полтаву. Обратная дорога была та же, о чем свидетельствует его письмо из Курска от 9 октября 1832 года. Весь 1833, как и 1834 год, он прожил в Петербурге и окрестностях и лишь весной 1835 года, после окончания экзаменов в Петербургском университете, выехал домой по известной нам дороге. И только 11 июля 1835 года писал И. Срезневскому из Васильевки, что едет в Киев. В конце этого месяца он и посетил Максимовича в Киеве, о чем тот писал в книге «Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде» (Спб., 1871): «Уцелел еще от сломки на Никольской улице тот… Катериничев домик, в который переместился я к весне 1835 года… (Он) стоит ныне на тычку, первый с правой руки, при въезде в новозданную Печерскую крепость, возле Лаврского дома. Там… был Гоголь, нарочно приезжавший ко мне в конце июля, возвращаясь из своей полтавской Васильевки или Яновщины в Петербург. Он пробыл у меня пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву… Вместе с Гоголем мне удалось… побывать у Андрея Первозванного. Там я оставил его на северо-западном угле балкона, а когда вернулся, я нашел его возлежащим на том же самом месте… Гоголю особенно полюбился вид на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, стояла неподвижно малороссийская молодица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глазея на Днепр и Заднепровье. „Чего ты глядишь там, голубко?“ — мы спросили. „Бо гарно дивиться“, — отвечала она, не переменяя своего положения, и Гоголь был очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке».