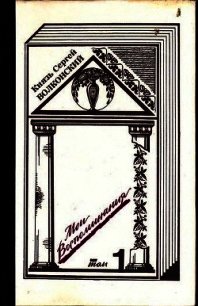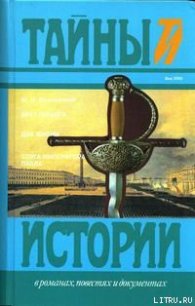О декабристах - Волконский Сергей (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Нонушку поместили в институт под фамилией "Никитина". Она на это имя не откликалась, несмотря на все наказания. Наконец, ее стали звать просто по имени. Она была ребенок с сильной волей, своенравный. Когда Императрица Александра Федоровна, посещая институт, сказала ей однажды: "Почему, Нонушка, ты мне говоришь "Madame", а не называешь "Maman", как все другие девочки?" Нонушка ответила: "У меня одна только мать, и та похоронена в Сибири".
У меня был детский рисунок. - какие-то дамы разговаривают с какими-то кавалерами; подписано детским почерком: "Нонушка Кате. Кто была Катя, неизвестно, и где теперь рисунок, тоже неизвестно.
Удивительная дружба царила между нашими дамами. Одинаковость интересов, судьба мужей, рождения, болезни детей, - спаяли их в тесную семью. Ни разу во всей тогдашней переписке не проскальзывает даже намека на какую-нибудь ссору, малейшее недоразумение. И при скученности, в какой они жили, это являлось свидетельством высокой их воспитанности; редко когда с большей наглядностью выступала благотворная сила житейских форм, и надо сказать, что, несмотря на все единичные случаи тяжелых испытаний, общий тон жизни был бодрый; они не позволяли себе распускаться, поддерживали и подбадривали друг друга: пусть, мол, недоумевает угрюмое начальство. Скоро дети стали главным центром жизни: все вращалось вокруг них; их очень любили наряжать; Мария Николаевна не одобряла, но обычай укоренился. Праздники, именины, рождения подавали повод матерям {92} изощряться в приискании развлечений; посылки из России вызывали радостный визг, становились предлогом дружеского обмена. Новая, нежная струя вливается в суровую жизнь. Это была улыбка каторги...
Легко понять, что внесли жены в жизнь изгнанников и как бедные узники их ценили. Вот стихотворение декабриста князя Одоевского, в котором чувства их нашли редкой прелести выражение. Чтобы его понять, надо помнить, что узники жили в тюрьме, окруженной высоким мачтовым тыном: к этому тыну, в часы прогулки заключенных по двору, подходили наши дамы и сквозь щели ограды разговаривали, рассказывали новости, передавали письма. Сперва часовые противились, один даже ударил княгиню Трубецкую прикладом, но потом начальство приказало не противиться; ходить "к ограде" вошло в обычай; это стало гостиной, клубом; княгиня Трубецкая, которая при полноте своей легко уставала, приносила даже с собой складной табурет. Вот как прелестно запечатлел эту картину Одоевский:
Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе там рожденный,
Не услаждал страдальческих очей.
*
Где душен был и воздух вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал,
И весь обзор, обширный и прекрасный,
Мучительно на волю вызывал.
*
Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены,
{93}
*
И, вестники благие Провиденья,
Явилися, как дочери земли,
И узникам с улыбкой утешенья
Любовь и мир душевный принесли.
*
И каждый день садились у ограды,
И сквозь нее небесные уста
По капле им точили мед отрады.
С тех пор лились в темнице дни, лета.
*
В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного,
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили покрова своего.
Мы проследили внешние условия жизни. Они были тяжелы. Однако великая целительница, привычка, оказывала и здесь долгое, но верное свое действие. Первые пять лет надеялись, вторые пять лет надеялись меньше, а потом и ждать перестали. Когда заходила речь о родине, княгиня Мария Николаевна с покорностью и разумной ясностью говорила: "Моя родина там, где мои дети".
Мы подходим к тому периоду нашего рассказа, про который могли бы нам рассказать люди предшествующего поколения. И вот, память моя летит к тем бумагам, которые были у меня отобраны. В их числе были замечания моей родной тетки Елены Сергеевны Рахмановой на "Записки" Н. А. Белоголового. Белоголовый, известный доктор, родом сибиряк, воспитывался в доме декабриста Поджио, когда они жили на поселении. Его книга, очень интересная, заключала в себе кое-какие неточности; моя тетка написала к ним "поправки", кое-что расширила собственными воспоминаниями. Эту тетрадку она мне подарила; сколько {94} "благоуханного" пролилось бы здесь на мой рассказ, если бы она была у меня под рукой...
Чем дальше подвигаюсь в моем повествовании, тем больше мне приходится черпать в памяти, тем меньше в письменном документе. Но ведь не может человек в памяти все сохранить; кроме того, готовя свои бумаги к изданию я естественно уделял больше внимания тем из них, которые должны были составить первые томы; эти я перечитал по три, по четыре раза, а дальнейшее по разу и то многие письма только, что называется, пробежал: тогда не было причины торопиться. И вот, переступая порог новой главы нашего рассказа. вспоминаю заметки моей тетки. Портреты всех тех лиц, о которых здесь упоминалось, проходят под ее пером, но уже не в молодости, а в зрелом возрасте и в старости. Очаровательно описание княгини Трубецкой: шаль и чепец, приветливое общительное лицо, ласковые пухлые руки, тонкий ум, блестящий разговор....
Она умерла в начале пятидесятых годов от рака в страшных мучениях, и похоронена в ограде Иркутского Знаменского женского монастыря. У меня было прелестное письмо от дочери ее, Зинаиды Сергеевны Свербеевой, с описанием их жизни в Сибири и выезда в Россию. И это письмо пропало...
Помню лишь, что старику Трубецкому не хотелось уезжать из Иркутска и детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены; только ради воспитания своего сына Ивана он сдался на увещания. Князя Ивана Сергеевича Трубецкого я помню в детстве; он умер от разрыва сердца, выезжая из дома Кочубеев у Красного Моста на Мойке, того дома, где впоследствии жил Куропаткин.
Зинаида Сергеевна Свербеева жива и посейчас, ей за 80 лет; выселенная из своего имения, она живет в Орле. Ее сын Сергей {95} Николаевич был русским послом в Берлине во время объявления войны... Возвращаемся к "заметкам" Елены Сергеевны.
Скорбный портрет Иосифа Поджио, этого страдальца, проведшего восемь лет в Шлиссельбургской крепости, в то время как несчастной матери и сестре на все вопросы о месте нахождения его отвечали неизменным "место ссылки неизвестно". Он приехал, наконец, в Усть-Куду, место своего поселения, когда наши переезжали в Урик, за месяц до рождения Елены Сергеевны. К тому времени мать его умерла, жена, урожденная Бороздина, вышла замуж за князя Гагарина. Чем-то разбитым, каким-то осенним сумраком веет от строк Елены Сергеевны, когда она описывает клочки этой страдальческой жизни. Тринадцатилетним ребенком она провожала его гроб, - это была первая смерть, которую она видела в лицо ...
И все это возникает под пером Елены Сергеевны из случайной прогулки на кладбище в Крыму; солнце, море, глицинии, кресты, и на одной мраморной плите: "Княгиня Гагарина, рожденная Бороздина". Вспоминаются какие-то черкесы, которые убили ее второго мужа, вспоминается сын Александр, который оставался в России, о котором отец неутешно тосковал ... Не могу, при всем желании, передать прелести этих заметок Елены Сергеевны. Я берег эту тетрадку, как ценнейший материал, которым думал воспользоваться для предисловия к третьей части предполагавшегося издания, для той части, которая должна была быть озаглавлена - "поселение". Да, бесконечно жаль этих прелестных записок. Еще раз повторяю, чем дальше подвигаюсь в моем рассказе, тем труднее мне: должен припоминать по таким данным, которые один только раз перелистал. Читатель должен {96} верить правдивости и искренности рассказчика, а справиться уже не по чему, спросить не у кого:
Увы, на жизненных браздах,
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле Провиденья,
Восходят, зреют и падут.