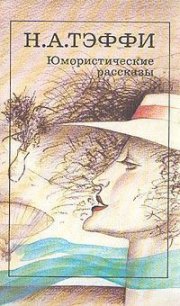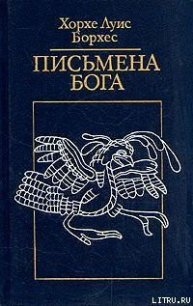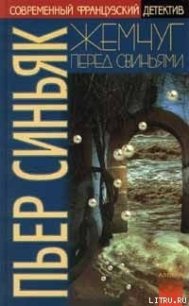Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
Стыд отца-матери в высшей степени стоек, потому что всю свою жизнь, сколь бы далеко или близко oi нихона ни протекала, вы останетесь тем телом ребенка, которое, некогда оказавшись перед глазами родителей, обнаружило, что у самих родителей тоже есл тело. В романе Кутзее «Бесчестье» отец, сидя за едой чувствует, что на него пристально смотрит его доч] Люси (вполне взрослая). «Надо быть поосторожнее ничто не внушает ребенку такого отвращения, как функционирование родительского тела»[43].
Если же на миг вообразить себе параллельную жизнь, тело-для-других вне родительской четы, вне сыновней поглощенности им, плоть перед глазами кого-то третьего, даже любовника, или пусть это будет всего лишь танцующее тело, желающее и желанное, — какая катастрофа! Вот кошмарная, хотя на вид совершенно безобидная сиена, которую приводит в романе о детстве Альбер Мемми. Мальчик невольно оказывается свидетелем молитвенного танца женщины во время обряда, призванного «с помощью негров-музыкантов и разрубания на части живьем белого петуха» вылечить тетку Маиссу, одержимую джиннами. «Я, казалось, слышал и чувствовал, как рвется плоть в жестокой битве против ритма, против демонов, когда обезумевшая танцовщица обернулась: это была моя мать! моя собственная мать, моя мать… Презрение, отвращение, стыд сгустились во мне, приобрели четкие очертания. […] В этой женщине, танцевавшей передо мной с полуобнаженной грудью, бессознательно предаваясь магическому распутству, я не мог ничего найти, я ничего не понимал». Узнавание выявляет противоречивое чувство двоякой природы: с одной стороны, неудовлетворенный ребенок, страдающий от отсутствия личного пространства и скученности, не осознает себя внутри своей семьи; с другой — он хочет, чтобы его родители были похожи на самих себя, чтобы нигде и никогда они не представали перед ним в ином свете, оставаясь на том месте, которое он отвел им в собственном воображении.
В этом смысле можно ли представить себе опыт более травмирующий, чем описанный Мисимой, который повествует нам о том, как ребенок оказался свидетелем внебрачного сексуального приключения своей матери, а его отец, тоже присутствовавший при этой сцене, пытался скрыть ее от сына? Так соединяются все условия для ниспровержения семейного романа и для приучения к абсолютному стыду.
Но неодолимое желание разорвать связь может ощущаться и в обратном направлении. Сатпен, герой романа Фолкнера «Авессалом, Авессалом!», отказывается от своего ребенка из-за того, что тот метис. Элен Сиксу («День, когда меня там не было») описывает крайний случай, оказывающийся источником целой вереницы постыдных переживаний: стыда стать отцом ребенка-монгола, стыда оставить его матери, но также стыда по отношению к миру людей-монголов, миру одновременно чужому и лишающему способности к различению («Все монголы похожи друг на друга. Еще один стыд»). Детско-родительский стыд — не только треугольный, он в некотором роде калейдоскопичен. Родной дом — это что-то вроде паноптикума, где в сознании каждого, чтобы он ни делал, тысячекратно преломляется неотвязное ощущение собственной неправоты и виновности. В дьявольской игре зеркал, где взгляды, брошенные с чересчур близкого расстояния, искажают друг друга, где отец и мать — тоже пленники сыновнего взгляда, ребенок получает все новые и новые уроки унижения — стыд самого себя, стыд имени, стыд происхождения, стыд родителей, стыд группы и общины, — чувствуя себя втянутым в спираль взаимных проступков.
Радикальный способ противостоять этой зеркальной муке — замуровать себя в тишине семейной крепости, бесплотной «каменной семьи», вне пределов взглядов друг друга. Именно об этом пишет Дюрас в романе «Любовник»: «Наша семья — каменная, окаменевшая в своей неприступности. Изо дня в день мы пытаемся убить каждый себя и друг друга, нам хочется убивать. Мы не только не разговариваем — даже не смотрим друг на друга. Нас видят, а мы ни на кого не смотрим. Посмотреть, поддаться любопытству — первый признак падения. Никто не стоит и взгляда. Смотреть — позорно. Мы изгнали из обихода слово „беседа“. Вот, наверное, самое полное отражение нашего стыда и нашей гордыни. Любое сообщество, семья ли, петли, — ненавистно и унизительно. Нас объединяет изначальный стыд — нам стыдно за то, что мы живем»[44].
Что же оказывается столь невыносимым для меня, когда я, ребенок, внезапно чувствую смущение, стыд своих родителей? То, что я испытываю страх сходства. «Мать казалась мне яркой, — пишет Анни Эрно. — Я отворачивалась, когда она открывала бутылку, зажав ее между ног. Я особенно сильно стыдилась ее резкой манеры говорить и вести себя потому, что чувствовала, насколько я на нее похожа». Янкелевич показывает, как малейшее несходство, невыносимая близость другого может порождать ненависть, самобичевание и стыд самого себя. В семье тунисских евреев, из которой вышел Альбер Мемми, все живут вместе или, по крайней мере, не очень далеко друг от друга. Настоящее племя. Вечером все собираются вместе. Никто не может укрыться от взглядов. Каждый ежедневно становится жертвой любопытства. Это уже не каменная семья, как у Дюрас, а стеклянная: «Итак, каждый оставался прозрачным для других, и, делая общим достоянием свои трудности и надежды, они составляли единую душу. Впрочем, все они были похожи друг на друга. Высокие и тощие, с маленькой выдающейся вперед головой — даже фигура у них была одинаковая. По вечерам, собравшись вокруг дядюшкиного стола и почти касаясь друг друга головами, склоненными над клеенкой, они напоминали поглощенный едой выводок животных одного помета. […] Попутно я открыл для себя и возненавидел племя». Невозможность одиночества: оставаться одному — привилегия богачей. Здесь же царит «надзор всех за каждым». В этой удушливой атмосфере страстишек, неотвязных привычек и взаимного презрения стыд размножается, как насекомое-паразит.
Конечно же страх сходства усиливается в случае осознания социальной ущербности, передающейся через семью. Но этот страх — вовсе не принадлежность одних только бедняков. В автобиографическом романе Роже Вайяна «Одинокий молодой человек» Эжен-Мари Фавар видит, как его отец (в девятнадцатилетнем возрасте получивший от матери пощечину за то, что провалился на экзамене в Политехническую школу) непременно краснеет или бледнеет, стоит ему испытать какое-нибудь чувство. «Этот человек не владеет своей кровью», — комментирует он. Оказавшись непосредственным свидетелем отцовских унижений, сын попадает в плен полученного в наследство стыда, который он вынужден переживать в свой черед, словно бы по доверенности. А значит, чтобы стать мужчиной, он должен не просто выдержать это испытание, но вырвать с корнем остатки переданного ему стыда, встать против отца: «Эжен-Мари чувствует, что краснеет. Он яростно обрушивается на себя за то, что краснеет, потому что, как он думает, в нем больше не осталось ничего от отцовского характера». Папе не хватает хладнокровия? Я сделаю все, чтобы стать непохожим на него. Уж я-то научусь не краснеть. И вот Эжен-Мари записывает в своем юношеском дневнике: «Нет горшего мучения, чем чувстве стыда».
* * *
Быть может, нигде способность страха сходства преодолевать случайности происхождения и социального положения не воплотилась так ярко, как в романе Пауля Низана «Заговор». Вглядываясь, как в зеркало, в своих породителей, мы с ужасом прозреваем наше будущее. На карту поставлена наша собственная жизнь. Юный Бернар Розенталь, сын биржевого маклера, живет в большой пышно обставленной квартире на улице Моцарта. «Ему достаточно было посмотреть на отца, чтобы с невыносимой точностью представить себе будущее его собственного тела. […] Как ужасно быть похожим на отца, на мать, заранее знать, что тебя ожидает. Согласиться жить можно, только если ничего не знаешь о том, как ты умрешь и что ждет тебя в старости». Итак, Бернар готов порвать кровные узы. Все семейные церемонии для него невыносимы. Он уже на пути к тому, чтобы предать свое окружение.