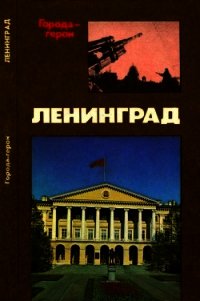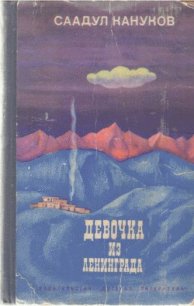Блокадная книга - Адамович Алесь Михайлович (книги полностью txt) 📗
По мнению опытных блокадников, более сдержанных, излишняя изобретательность тут пагубна. Часто она убивала человека еще до того, как завершал свое дело голод. Но, даже зная это, люди не могли удержаться: голод не тетка!..
Рассказывает Зоя Алексеевна Берникович, работник Эрмитажа:
«— Конечно, все приходилось есть: и ремни я ела, и клей я ела, и олифу: жарила на ней хлеб. Потом нам сказали, что из горчицы очень вкусные блины. За горчицей какая была очередь!
— Что же, из одной горчицы?
— Надо было уметь делать. Я две пачки положила (взяла-то пятнадцать пачек, думала, запас будет, может, жить буду). Вот надо ее мочить семь дней, сливать воду и опять наливать, чтобы горечь вся вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики, два. Съела один, и потом я стала кричать как сумасшедшая. У меня были такие рези! Очень многие умерли. Все-таки это горчица; говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает: «Сколько вы съели блинчиков?» — «Только один». — «Ваше счастье, что вы съели мало. Ваше счастье!» Вот так я осталась жива… Ландрин покупали, пили сладкий чай; сахарин иногда можно было достать. Правда, весной уже был огород. Я была очень счастлива, что мой огород никто не трогал. Я ела, знаете, какую траву? Лебеду и мать-и-мачеху, может быть, знаете такую? Как принесу полный мешок, у меня была такая большая бутыль, я туда натрамбую, насолю и с солью ем».
Про «бадаевскую», про «сладкую», землю рассказывают многие. Ее продавали на рынках наравне с другими продуктами. Качество (и цена) «бадаевского продукта» зависела от того, какой это слой земли — верхний или нижний. Валентина Степановна Мороз (библиотекарь) и сейчас помнит вкус ее:
«— Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена?
— Сладость чувствовалась?
— Даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему!
— Как готовили эту землю?
— Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглатывали и кипятком запивали».
В перечне блокадной еды всякое можно найти — конопляные зерна от птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощренности, с какой испытывалось на съедобность все окружающее. Например, одна женщина разрезала, варила и съела шубу из сусликового меха (из рассказа Степанчук М. Г.).
Есть народы, у которых принято потреблять в пищу, допустим, собак, или змей, или лягушек. Для ленинградца преодолеть эти «предрассудки», все свое воспитание было делом нелегким, и многим оказывалось не под силу.
И даже в буквальном смысле… «землю ели»…
Александра Михайловна Арсеньева, автор печатных воспоминаний о комсомольском полке противовоздушной обороны Ленинграда, рассказала нам:
«— Я пошла на семинар в райисполком и попала под бомбежку под аркой — побили мне позвонки, в общем, не сломали, но большие синяки были, и я уже не могла двигаться. Без сознания меня принесли в ремесленное училище какое-то, в первый этаж. И вот там я, лежа и чувствуя, что я уже не вернусь к жизни, не встану, смотрела на мальчишек — тощих, с сумками из-под противогазов. И в сумках у них земля — они продают, меняют на хлеб землю! Подходит ко мне мальчишка и говорит: «Тетенька! Вы хлеб не едите? (А я хлеб уже не ела, у меня открылся кровяной понос, и я ничего не ела.) Поменяйте на землю. Это очень вкусно!» — «Как же, говорю, землю есть?»
— Это с Бадаевских складов земля?
— Это торф, даже не сладкий, а просто торф, поскольку торф считается питательной землей. И вот землю — на хлеб. За кусочек хлеба он дает тебе две кружки земли. Я эту землю взяла только, чтобы попробовать, а хлеб отдала. Отдала им и карточки свои. Мальчишки честные были, они мне приносили хлеб».
Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека.
Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слагает:
«Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытья поесть хлеба.
А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек.
Вот с этого я начинаю утро, только с этого. Я не вру. Пью чаю две чашки крепкого, и это богатство.
Когда умирал человек и ты к нему подходил, он ничего не просил — ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал!..
Я осталась, я не знаю, почему я, такая, осталась. Я не знаю почему. Я малограмотная.
У меня детство было тяжелое, отец и мать до революции умерли. Ну, почему я осталась? Может быть, для этого осталась, чтобы рассказать какую-то там историю интересную?»
Массовый голод — это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел — остановился, присел… Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей.
«Я шла с работы, и вот (угол проспекта Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: «Девушка! Ради бога, помогите мне!» Я мимо шла, говорю: «Чем я могу вам помочь?» — «Ну, доведите меня до этого забора». Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. Я говорю: «Чем вам помочь?» Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!» (Никитина Елена Михайловна).
Об этом же — Людмила Алексеевна Мандрыкина (Невский проспект, 137).
«— Ну, что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были — милиционеры, чудесные, молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь в милиции. В милиции кормили очень плохо, так же как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала, ну, просто говорили о том, что пройдет же это время, что будет потом? Мы старались не говорить об еде. И вдруг, ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое…
— Прямо во время разговора?
— Вот прямо во время разговора. Он сидит… садится, говорит: «Ой! Мне что-то не очень!..» — «Ну, посиди! Всем не очень хорошо…»
Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит, медленнее…
Вот так умирали люди. Так они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили, первое время, а потом его просто обходили, и он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла…» Такие рассказы повторяются и варьируются до бесконечности — про тихий, незаметный переход за край голода, — а иные приобретают жуткий образный смысл.
«— Потом вдруг он ко мне обращается и говорит: «Марья Андреевна! Сядьте со мной рядом. Я вам отдам партийный билет. Посидите со мной рядом». Села с ним рядом, значит. Я говорю: «Где у тебя семья?» — «Она эвакуирована. Не знаю, мне ничего не пишут». (Ну, где там писать. Может, и пишут, да не попадает.) И вы знаете, он меня обхватил за шею-то, то ли он хотел поцеловать, то ли что. И он умер! Вы представляете — у мертвого как зацепляются руки? Я никак не могу выбраться оттуда, ничего не могу сделать. А Женя Савич и еще там пришли. Ну, что — они тоже не могут. Ну, еле-еле вытащила голову от него…» (Из рассказа Сюткиной Марии Андреевны, бывшего парторга цеха Кировского завода).
Надо было ходить на завод, надо было работать, хотя и просто идти по улице для ленинградца порой было не по силам.
«— Потом я еще очень хорошо помню, как люди шли. Никогда я и нигде не видела и не слышала, чтобы человек шел так, как в блокаду: человек шел так, как против ветра идут, понимаете, вот наклонившись всем корпусом вперед, чтобы не упасть, тяжело вот так переставляя ноги! Почти все так ходили. Не знаю, почему мне запомнилась эта походка.