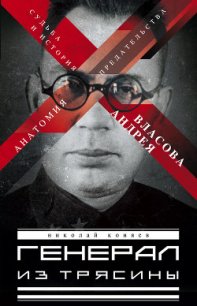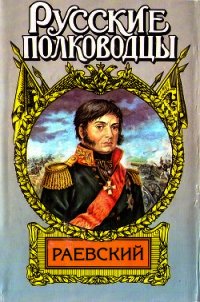Генерал Корнилов - Кузьмин Николай Павлович (е книги TXT) 📗
– Вы забываете, что новая Россия воевать ни с кем не собира ется. В том числе и с Германией. Мир между народами – вот наше требование. И мы об этом уже заявили.
Лукавым движением бровей Милюков выразил свое сомнение насчет столь призрачных надежд.
– Боюсь, Германия имеет свои планы, господа. Ее командова ние, и генерал Корнилов нам об этом только что сообщил, настро ено по-прежнему весьма решительно.
– У вас что… такие доверительные связи с германским гене ральным штабом? – съязвил Гиммер, ощерив мелкие частые зу бы.
С профессорской снисходительностью Милюков отнесся к новой выходке невоспитанного собеседника.
– Разумеется, Германия хочет мира. Она его жаждет. Но где гарантии, что она сядет за стол переговоров, не обеспечив себя предварительно хотя бы, скажем, половиной нашей Украины?
Нахамкес удивился:
– Вы настаиваете на том, что Германия хочет воевать? Спокойно, волооко глянув на него, Милюков посоветовал:
– Господин комиссар, раздобудьте немецко-русский словарь и прочтите хотя бы одну из немецких газет. Наши противники своих намерений не скрывают.
Взъерошенный Гиммер напыщенно провозгласил:
– Мир-ровая р-революция р-разр-растается и кр-репнет! Кр-ровавого Вильгельма ждет судьба кр-ровавого Николашки!
Комиссарские наскоки Милюков воспринимал как несокрушимая скала. Чем больше кипятились Гиммер и Нахамкес, тем замороженнее становился министр иностранных дел. В нем оказался неистребимый запас невозмутимости. Белоголовый, с крупным породистым лицом, он лишь багровел. Казалось, метать горох в глухую стенку – для него обычнейшее дело. За весь долгий день он ни разу не повысил голоса.
– Вы что же… требуете капитуляции Совета? Так вас прика жете понимать?
Мы!.. – усмехнулся Милюков. – Требуем не мы. Требует Россия. Требует наша молодая демократия. Да будет вам извест но, господа, что мы начали войну, недосчитываясь в рядах армии более трех тысяч офицеров. Не сомневаюсь, что вам известны наши фронтовые потери. Убыль офицеров пополнялась, как изве стно, в основном за счет вольноопределяющихся. Погоны надела наша лучшая молодежь. Почему вы ей отказываете в демократиз ме, господа? С какою целью вы всю ее огулом записываете в какие-то черносотенцы?Корнилов снова чуть не испортил дела. Он не вытерпел:
– Вы же все время требовали ответственного министерства. «Правительство народного доверия»… Но разве офицер – не представитель государства? Почему вы вдруг отказываете ему в доверии солдат?
Как снова встрепенулись оба комиссара!
Какой: выразительный взгляд метнул в его сторону терявший терпение Милюков!
Тщедушный Гиммер чуть не завизжал:
– Старому офицерству? Вы спрашиваете: вашему старому офицерству? Мы ему отказываем… да! Никакого доверия этим палачам! Офицер нашей армии должен пользоваться доверием своих солдат. И наша армия изберет себе таких командиров…
Волны ожесточенного спора заплясали было снова, как вдруг дверь распахнулась и в помещении возникла нелепая фигура министра юстиции Керенского. Все вздрогнули, замолкли и оборотились. Керенский влетел словно с разбега: стремительный, с рыскучим взглядом, с вихревыми жестами. Почему-то выделил из всех Корнилова.
– Мое почтение, генерал! – И словно кинул ему свою руку.
В сверкающих крагах, с пузырями на коленях, с жестким ежиком волос, он казался иностранцем. Его сжигало нетерпение, он вел себя так, будто урвал случайную минутку. С невозмутимым Милюковым на ходу перешепнулся и, нажимая ему на плечо, сделал знак Гиммеру с Нахамкесом пойти с ним в соседний кабинет.
Оставшись вдвоем, Корнилов с Милюковым в молчании переглянулись. Министр выразительно поднял брови и тяжело вздохнул. Он так же, как и Корнилов, испытывал крайнюю усталость.
С треском распахнулась дверь, Керенский, по-прежнему весь устремленный, промчался через комнату и скрылся. У Гиммера с Нахамкесом был удрученный вид. Они сами предложили подвести итог. Казалось, им тоже опостылел долгий и бесцельный спор. Желчный Гиммер сник и не произносил ни слова. Громадный Нахамкес, поглаживая бороду, зачитал коротенькое постановление исполкома Совета. Лавр Георгиевич уловил: «…о недопущении огульного подхода ко всему офицерскому корпусу демократической России».
Это была победа. День потерян не напрасно.
Но что за магическое слово сумел сказать этим двум остервенелым комиссарчикам ворвавшийся как метеор Керенский?
Так, мало-помалу Лавр Георгиевич все чаще и все ближе соприкасался с таким грязным и муторным занятием, как политика…
Радость от достигнутой победы оказалась преждевременной. Через несколько дней исполком Совета постановил: «Войска, принимавшие участие в революционном движении, разоружены не будут и останутся в Петрограде». Это было грозное предостережение не столько штабу округа, сколько самому Корнилову.
Лавр Георгиевич удивился, узнав, что Временное правительство с этим постановлением согласилось. Выходило, Гучков забыл свои недавние обещания и обманул. Вот она, политика, фальшивый глаз с присоском!
В прежние времена в таких случаях полагалось подавать в отставку. Корнилов, сдержав негодование, так и не подал. Самоустраняться – значило бы дезертировать, отказаться от борьбы, сыграть на руку противнику.
День ото дня столичная жизнь учила генерала, что в политике, как и на фронте, нельзя идти в полный рост на бешено работающие пулеметы. Фронтовой генерал в роли жандарма! Остыв и поразмыслив, он пришел к выводу, что министр прав. Жутко представить в Александровском дворце орду братишек в аршинных захлюстанных клешах, грохающих прикладами винтовок по паркету.
Возвращаясь от Гучкова, когда автомобиль поворотил с Адмиралтейской набережной на улицу Глинки, Лавр Георгиевич сказал шоферу остановиться. Машину дернуло, понесло юзом и ударило задними колесами о бордюр. Шофер вполголоса выругался. Корнилов вышел из машины и задрал вверх голову, словно мальчишка перед деревом. Шофер полюбопытствовал, что привлекло внимание командующего округом.
Над дворцом великого князя Кирилла Владимировича развевался красный флаг. Цвет флага бил Корнилова по глазам. Он видел эти флаги над митингующими толпами. В последние дни с ними бегали на митингах орущие солдаты. Однако сейчас перед ним был величественный дворец члена царской семьи!
Корнилов откинул голову и зажмурился, словно от нестерпимой боли.
В императрице Александре Федоровне сильно сказывалось происхождение из владетелей захолустных мелких княжеств, испытавших жгучее унижение от наглого самоуправства Наполеона. Достигнув власти, она, в отличие от мужа, никак не поддавалась расслабляющему волю фатализму. Она ожесточалась и, сознавая, какая беда заходит не только над державой, но и над ее большой семьей, жалела, что не родилась мужчиной.
На русском троне полагалось бы находиться ей, а не вялому, безвольному Николаю!
В письмах царицы сквозит ее властный и решительный характер. Она настойчиво побуждает мужа не раскисать, действовать энергично, проявить в конце концов характер самодержца. Она не могла слышать наглой думской болтовни нечистоплотных лидеров русской демократии.«Я бы спокойно, с чистой совестью перед всей Россией отправила бы Львова в Сибирь, Милюкова, Гучкова и Поливанова – также в Сибирь. Идет война, и в такое время внутренняя война есть государственная измена. Почему ты так на это смотришь, я право не могу понять. Я только женщина, но моя душа, мой ум говорят мне, что это было бы спасением… Мы Богом возведены на престол, и мы должны твердо охранять его и передать его неприкосновенным нашему сыну. Если ты будешь держать это в памяти, то не забудешь быть государем… Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом. Раздави их всех под собой!»
Как ей было горько наблюдать раскисшего супруга, когда он в тихом подпитии возвращался из офицерского собрания, виновато смотрел на нее своими прекрасными романовскими глазами и бормотал: «Твой бедный старый муженек совсем без воли…» Она с трудом удерживала слезы. Какой же из него защитник? Погубит и державу, и себя, и всю семью!