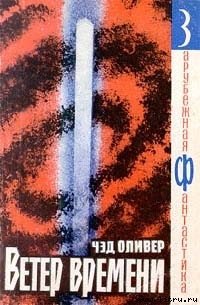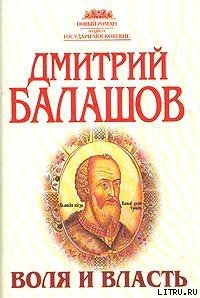Ветер времени - Балашов Дмитрий Михайлович (книги бесплатно .TXT) 📗
– Да!
– Слух есть, – подает голос Семен Михалыч, – что Темир-Ходжа просил денег у Дмитрия Костянтиныча!
– А теперь просит у нас? – вскидывается Тимофей Вельяминов.
– Кто боле заплатит! – подает голос, с усмешкою, Дмитрий Афинеев.
– Ищите, бояре! – устало отвечает Алексий.
– Может быть, Кильдибек? – спрашивает Семен Жеребец, тут же и добавляя: – Только брешет он, что сын Бердибека!
– Не сын, племянник!
– Сын Джанибека, бают!
– Третий самозванец на престоле?
– Не усидит! – со вздохом подытоживает Дмитрий Зернов.
– Мамай? – подает голос молодой Федор Кошка.
Мамай – правая рука покойного Бердибека, его зять, гурген, Мамай – самовластец в западной степи, Мамай, уже сейчас выставивший «своего» хана Абдаллаха (Авдула, как его называли русичи), Мамай – это было, могло быть надолго и всерьез.
– Я уже писал Мамаю! – возражает Алексий хмуро. – Мамай молчит!
– Либо хочет сам со всема сладить, либо Ольгердом подкуплен! – замечает Семен Михалыч, пошевелясь на лавке.
– Ищите, бояре! – повторяет владыка Алексий. – Ищите глубже! Не тех, кто выйдет наперед теперь и будет резать друг друга, а того, кто выждет и заберет власть!
Сам он уже давно думал о Мамае, угадав во властном темнике будущего повелителя Орды, и уже дважды посылал к нему. Но Мамай тоже выжидал, не желая связывать себя до времени обещаниями кому-либо. И, быть может, и верно, был подкуплен Ольгердом?
Глубокой ночью в покой Алексия просовывается незаметный монашек. Шепчет, загибая пальцы, называет новое имя – Мурут.
У Хызра (Хидыря) есть сын, Тимур-Ходжа (Темерь-Хозя – называет его монашек). Но есть у него и брат, Эрзен. Оба они – сыновья Сасы-Буки, праправнука Орды-Ичена, брата Батыя. Сына этого Эрзена, Чимтая, эмиры звали на сарайский трон. Чимтай послал брата, Орду-Шейха, который был вскоре убит, и на престоле утвердился Хидырь. Но у Орды-Шейха остался сын, Мурад (Мурут – называет его, переиначивая по-русски, монашек).
– Бесермена бают, что в начавшей замятне эмиры Сарая предпочтут Мурута Темерь-Хозе!
Монашек так же неслышно покидает покой. Алексий сидит, склонив чело, думает. Но вот взор его просветляется, он подымает голову и произносит негромко одно лишь слово: «Мурут!»
С Мурадом (Мурутом) сразу встретиться не удалось. Пришлось тайком ехать в степь, искать и ждать, пока наконец Мурут не явился нежданно сам к Алексию в шатер, один, без свиты, якобы случайно заблудясь на охоте.
Мурут был молод, сухощав. Глядел осторожно и недоверчиво, Алексию много сил потребовалось, чтобы его разговорить.
– У русичей был такой порядок – его называли лествица, – что старшему брату наследовал не сын, а младший брат, а когда откняжат все братья, тогда наступал черед сыновей и племянников. Порядок этот русичи переняли у степняков. И ты, хан, имеешь не меньше права на престол, чем дети и внуки Хызра!
Алексий говорил, взглядывая в настороженные черные монгольские глаза гостя, который наконец-то вовсе перестал улыбаться и глядел на Алексия не мигая, подавшись вперед. Смугло-желтая рука хана с тонкими сильными пальцами перебирала звенья наборного пояса. Рука была беспокойна, не то что лицо. Пальцы мяли кожу, нервно ощупывая серебряные накладные узоры. Дойдя до конца пояса, рука замирала и начинала свой танец вновь. Бесстрастное плосковатое лицо хана не могло обмануть Алексия. Мурут слушал, и слушал жадно, не пропуская ни слова.
– Серебро! – сказал он наконец, подымая взор на Алексия. Пальцы сжались в кулак и застыли. Теперь говорили глаза. – У меня мало воинов!
Хан не плел околичностей и, кажется, не лукавил совсем. Алексий сказал, сколько он может дать, прибавив, что, ежели великий стол вновь перейдет к москвичам, сбавлять ростовскую дань они не будут. Хан мрачновато глянул, опустил взор, поднял вновь. Сказал отрывисто:
– Мне может помешать только Мамай! Тагай не страшен, Булак-Темир не страшен, Кильдибек… тоже не страшен! Дай серебро, русич, и мои беки все станут за тебя! – Помолчав, вопросил с пронзительно загоревшимся взором: – Почему ты, урус, не даешь серебра Темир-Ходже? Он зол на тебя!
Алексий чуть заметно усмехнул.
– Потому, хан, – отмолвил он с расстановкою, – что не в обычае русичей подымать сына на отца!
– Этого прежде не было и в Орде! – помрачнев, ответил Мурут. Помолчал, поднял взор, сказал твердо: – Я верю тебе, урус!
Возвращаясь в Сарай, Алексий думал дорогою, что теперь Русь и Орда едва ли не поменялись местами. Ханам, истощающим степь во взаимной борьбе, становится русская помочь важнее, чем Руси – помочь ордынского хана.
Мысль была важная, и ее следовало додумать до конца, содеяв свои выводы. И обязательно еще раз повидать темника Мамая!
Алексий в эти дни мало и видел своих бояр. Все были в разгоне. Кто ездил по бекам ордынским, кто улаживал споры с суздальскими и ростовским князьями. Алексий велел торопиться изо всех сил, проявив к братьям-князьям несвойственную ему уступчивость.
До Мамая сумел прежде всех добраться Федор Кошка. Младший Кобылин на глазах вырастал в нешуточного дипломата. Легко, словно в полсилы, играючи, охаживал он недоверчивых беков, всюду был вхож. К иному, думай еще: како и подступить? Ан, глядь, уж Кошка сидит у него в юрте, скрестив ноги кренделем, пьет кумыс, толкует по-татарски с хозяином, а тот весь маслено расхмылил широкое круглое лицо – рад гостю.
Воротясь на русское подворье, Федор Кошка долго, отдуваясь, пил холодный квас, насмешил всех рассказом о двух татаринах, повздоривших из-за жеребой кобылы, но главное вымолвил уже погодя в особном покое в присутствии Алексия и четверых великих бояр: Семена Михалыча, Феофана Бяконтова, Дмитрия Зерна и Тимофея Вельяминова.
– Мыслю, – скинув всякое балагурство и став словно и годами возрастнее, сказал Федор, – надо дать Мамаю охолонуть чуток! Сарай ему и без нас не дадут, – примолвил он, разбойно сверкнув глазами в сторону Алексия. – Ну а вот когда не дадут, тогда и толк поведем иной! Пущай сбавит спеси!
Бояре задумались, а Алексий, выслушав Кошку, молча согласно склонил голову. С Мамаем, и верно, следовало погодить. Алексий уже давно понял, что в этом невеликом ростом татарине таит себя немалая сила, полный исход которой еще очень и очень впереди. И тут надобно было не ошибиться и для того вовсе не спешить!
Гоняя бояр, Алексий и себе не давал пощады. Трудился денно и нощно, почти не спал, усталость побеждая волею, и только когда уже все возможное, кажется, было совершено, почуял то смертное падение сил, которое, бывало, ощущал крестный, ворочаясь из Орды.
С суздальским князем, довершая дела, они сидели за одним столом, и Дмитрий Константиныч, подозрительно взглядывая на омягчевшего, слишком уступчивого митрополита, с неведомою досель смертною усталостью в глазах, все не понимал, в чем обманывает его московит. И даже – обманывает ли его вовсе? Или уступил, отступил, не желая дальнейших ссор?
Дмитрий Константиныч в простоте своей ожидал, что Алексий и московиты будут спорить о владимирском столе перед ханом Хидырем, и на всякий случай всячески задарил заранее владыку золотоордынского престола, а также его старшего сына Темир-Ходжу. Но Алексий спорить не стал. Уступал он и в делах поземельных, даже пообещал за один год заплатить недоданный ростовчанами ордынский выход. Неволею приходило принять днешнее смирение москвичей, отнеся его за счет молодости московского князя.
Вечером измученный Алексий оставался один на один со Станятою. (Порою мнилось: они вновь сидят вдвоем в смрадной яме, из коей нет исхода наверх, к свободе и воздуху.) Станята задумчиво толковал о молодости и старости народов, о своих беседах с каким-то сарацинским купцом-книгочием, называвшим арабского мудреца Ибн-Халдуна… Далекая мудрость Востока, перевидавшего десятки народов и пережившего многие тысячелетия культуры и многократные смены языков и верований, мудрость, прошедшая через многие уста и многажды поиначенная, касалась в этот час двоих уединившихся русичей.