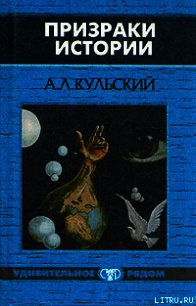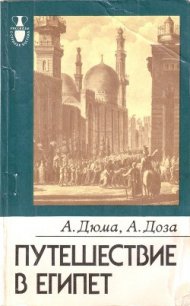Популярная история евреев - Джонсон Пол (первая книга .txt) 📗
Поиск и изгнание еретиков сопровождались odium theologicum (богословским унижением). Как говорил Закс, Фрейд мог быть «твердым и острым, как сталь, мастером ненависти». Он осудил Альберта Молла, автора «Сексуальной жизни ребенка», обозвав его «животным» с «интеллектом и моралью адвоката-кляузника»; выгнав того из кабинета, Фрейд добавил: «Всю комнату провонял, как черт какой-то». Адлер был назван «дрянью, полной яда и низости»; «я сделал пигмея великим». Вильгельм Штекель, другой «апостол», был объявлен «вошью на голове астронома» – ругательство, которое Фрейд заимствовал у Гейне, еще одного мастера ненависти. Юнг оказался «еретиком», «мистиком», а «юнгианство» стало худшим оскорблением в словаре Фрейда. Бывшие последователи игнорировались на улице, ссылки на них вырезались из новых изданий трудов Фрейда или вырождались во что-нибудь вроде «бывший исследователь». Письма Юнга к Фрейду много лет считались «пропавшими». По поводу всех этих склок Фрейд опять же цитировал Гейне: «Нужно прощать своих врагов, но не раньше, чем их повесят». Есть много примеров «повешенья», но ни одного – прощенья. Когда Адлер умер в 1937 году по пути в Абердин, Фрейд (которому тогда было за 80) писал Арнольду Цвейгу: «Не понимаю вашей симпатии к Адлеру. Для еврейского мальчика из венского пригорода смерть в Абердине – неслыханная карьера».
Если Фрейд обладал нетерпимостью Ездры и всеми характерными ошибками кафедократии, он все же обладал и ее героическими достоинствами: неустрашимостью в защите того, что он считал истиной; страстной изобретательностью в проведении своей линии; неустанным трудом до конца жизни; смертью святого, медленно умиравшего от рака, отказавшегося облегчить свои страдания морфием: «Лучше я буду думать в мучениях, чем утрачу способность ясно мыслить». Артур Кестлер, который наблюдал его кончину, увидел «маленького и хрупкого» мудреца с «несокрушимой жизнеспособностью еврейского патриарха». Фрейд был носителем традиции еврейской иррациональности, то есть он был ближе к Наманиду и Бешту, чем к Маймониду. Но, может быть, именно благодаря этому он стал центральным столпом интеллектуальной структуры XX века, которая сама была довольно иррациональным сооружением. Или, используя другую метафору, он дал человечеству новое зеркало, и никому другому не удалось так радикально и необратимо изменить образ, в котором человечество видит себя; или, по крайней мере, как оно говорит о себе, ибо он изменил и сам словарь интроспекции.
Если Фрейд изменил то, как мы видим себя, то Альберт Эйнштейн (1879—1955) изменил наше видение вселенной. Это сделало его центральной фигурой XX столетия, а может быть и XXI тоже, поскольку, как показывает история, великие реформаторы законов науки, как Галилей, Ньютон или Дарвин, продолжают оказывать свое влияние на общество в течение длительного времени. Эйнштейн был евреем из Ульма, где у его отца была небольшая электрохимическая фирма. Он работал в швейцарском патентном бюро в Берне и сформулировал в это время свою Специальную теорию относительности (1905) и Общую теорию относительности (1915). Основные открытия были сделаны им, как и Фрейдом, до Первой мировой войны; в дальнейшем он упорно, но безуспешно пытался создать общую теорию поля, которая вобрала бы в себя квантовую физику, в создании которой он также играл ключевую роль.
Эйнштейн, судя по всему, никогда не был практикующим евреем в обычном смысле этого слова, и в этом напоминал Фрейда. Но, в отличие от Фрейда, он никогда не отвергал веру в Бога как иллюзию; он, скорее, пытался дать ей другое определение. Интеллектуально он целиком и полностью находился в русле традиции еврейского рационализма Маймонида и Спинозы. Он был ученым-эмпириком в высшей степени скрупулезным и старался формулировать свои теории таким образом, чтобы сделать возможной их точную проверку, причем всегда настаивал на том, чтобы провести ее, прежде чем говорить об истинности своих воззрений; в этом он был почти полной противоположностью догматизму Фрейда. Но он допускал существование истины, которая не может быть проверена. И в этом отношении он был честнее Фрейда. Фрейд отрицал существование мистической правды, оставаясь, в сущности, сам мистиком. Эйнштейн же оставался рационалистом, допуская мистическую сферу. По его мнению, «загадочное», чему он придавал скорее эмоциональный, чем фактический оттенок, «стоит у колыбели подлинного искусства и подлинной науки». За пределами «глубоких причин и сияющих красот» находятся непознаваемые истины, «которые доступны нашему сознанию только в самой примитивной форме». Осознание этого, утверждал он, и есть подлинно религиозное чувство, и «в этом, и только в этом смысле я – глубоко религиозный человек».
Последнее утверждение есть, по существу, другая формулировка символа веры Маймонида о том, что существуют два дополняющих друг друга пути познания истины: разум и откровение. Однако Эйнштейн был намного ближе к Спинозе, которым он восхищался, отвергая откровение как таковое. Он говорил, правда, что для того, чтобы сформулировать крупную научную концепцию, необходимо интуитивное мышление, что-то вроде слепого скачка в большое теоретическое обобщение. В этом у него было много общего с французским евреемфилософом Анри Бергсоном (1859—1941), который разделял положения Эйнштейна о мистическом и интуитивном элементе в науке (а также о связи времени и материи). Но, по мнению Эйнштейна, коль скоро интуиция создала элементы идеи, наступает черед науки и разума. «Я желаю знать, как Бог создал этот мир», – говорил он, ставя почти мистическую цель. Но знание необходимо приобрести при помощи математических построений, подкрепленных данными астрономии. В каком-то смысле Эйнштейн делал то, что пытались совершить каббалисты – описать Творение числами. Но в то время, как их числа были интуитивными, магическими и непроверяемыми, его числа были рационального происхождения и проверены телескопом. Было в этом своего рода волшебство, которое его восхищало, когда он обнаруживал, что вселенная, вместо того чтобы быть хаотичной, как можно было бы априори предположить, оказывается упорядоченной, управляемой законами пространства-времени, которые хотя и могут со временем измениться, как он изменил законы Ньютона, но, тем не менее, принципиально доступны человеческому разуму. В этом, говорил он, и «состоит «чудо», которое все углубляется по мере развития нашего знания».
Эйнштейн верил, что макрокосмос и микрокосмос управляются одними законами и что его Общая теория относительности в конце концов станет просто частью общей теории, описывающей все электромагнитные поля. Тогда каждое физическое соотношение материального мира можно будет точно описать несколькими страницами уравнений. Он чувствовал глубокое родство со Спинозой, который тоже «глубоко убежден в причинной обусловленности всех явлений, причем в то время, когда успехи на пути познания причинной связи явлений были еще весьма скромными». Ему же, через 300 лет после Спинозы, должен сопутствовать успех. Этот поиск выглядел особенно еврейским, в том смысле, что диктовался необходимостью открыть всеобъемлющий закон о вселенной – своего рода научную Тору. Альтернативой всеобъемлющей теории был индетерминизм – концепция, особо неприемлемая для еврейской мысли, поскольку делает невозможной всю этику, закономерность в истории, определенность в политике и законе. Отсюда и сорокалетние поиски Эйнштейна, не завершившиеся успехом. Подобно Маймониду, который в своем кодексе, комментариях и «Наставлении» пытался свести все огромное наследие иудаизма к компактному, ясному и рациональному объему знаний – иудаистской сумме, Эйнштейн искал полной и монументальной простоты, научной суммы, которая сделала бы ясным смысл вселенной.
Фактически его реальные достижения ограничились формулированием теории относительности. Ее истинность была продемонстрирована неоднократно, и в течение шестидесяти или более лет она является сердцевиной свода научных знаний. В общественное сознание она, правда, привнесла не новую и большую простоту, а новую сложность, поскольку относительность путают с релятивизмом, особенно с моральным релятивизмом. Соединение Эйнштейна с Фрейдом, по крайней мере, на бытовом, так сказать, уровне, нанесло сокрушительный удар по абсолютной определенности иудео-христианской этики, в которую Эйнштейн кстати глубоко верил. Это также было зачтено в прегрешения евреев. Появление теории относительности ознаменовало к тому же для многих образованных и интеллигентных людей момент, начиная с которого они оказались неспособными понимать ход развития науки. О последствиях этого писал еврейский писатель и философ Лайонел Триллинг (1905—1975): «Отлучение большинства из нас от научного способа мышления, который традиционно считался достижением нашего века, было воспринято как удар по нашему интеллектуальному самоуважению. Мы все согласились помалкивать об этом унижении; но можно ли сомневаться, что оно… внесло в духовную жизнь как существенный элемент сомнение и отчужденность, которые следует принимать во внимание при любой оценке нынешнего состояния умов?»