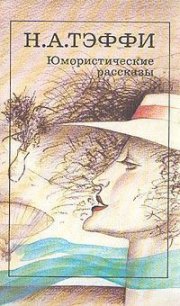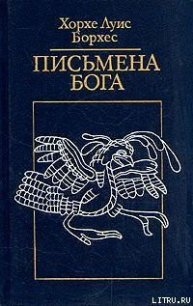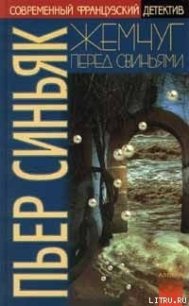Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
Как он пришел к этому? Подобно тому как не существует никакого рационального объяснения безграничной жестокости, ввергшей юную героиню «Американской пасторали» в убийственное безумие, речевой дефект Мидзогути не позволяет объяснить совершение террористического акта, сопровождаемое желанием поглотить весь мир. В то же время Мисима, как и Филип Рот, безусловно, хотел через заикание выразить некую сущностную ущербность, глубинную травму. Оно — знак неспособности принять порядок вещей и их синтаксис, вступить во взаимодействие с другим, знак стыда одновременно исторического и онтологического, физически ощутимого кожей и языком.
Лучший друг Мидзогути, Касиваги, косолап на обе ноги. Кажется, что стыд Мидзогути-заики способен ощутить солидарность со стыдом калеки, постоянно возбуждающего любопытство или сочувствие. Избавиться от стыда значило бы стать невидимым — «этаким эфиром»[34]. Но разве это возможно — с кривыми-то ногами? Вот они — неустранимые, вездесущие, нипочем не желающие становиться прозрачными.
«Нормальные люди полагают, что увидеть себя можно только в зеркале, но калека всю жизнь смотрится в зеркало, постоянно висящее перед самым его носом. Каждую минуту он вынужден любоваться собственным отражением». И вот, вместо того, чтобы попытаться забыть о своих кривых ногах и — чего уж и вовсе невозможно вообразить — заставить забыть о них всех окружающих, Касиваги хватается за свою чудовищность, чтобы. утвердить себя в глазах мира, отвечая на стыд цинизмом, извлекая выгоду из своей необычности — вплоть до того, что заставляет молоденьких девушек из сострадания влюбляться в него именно благодаря его уродству.
Но Мидзогути недостаточно цинизма. Он научился предпочитать оскорбления и насмешки проявлениям сочувствия. Настолько, что приходит в ярость по отношению к своему другу Цурукаве: тот, единственный из всех, не подшучивает над его заиканием. «Почему?» — допытывается он у Цурукавы. «Знаешь, я не из тех, кто обращает на такие вещи внимание», — отвечает Цурукава. Так заика узнает, что он может обрести свое «я» в чистом виде, отбросить заикание. «А ведь до сих пор мной владело странное убеждение, будто человек, игнорирующий мое заикание, тем самым отвергает все мое существо». Но это открытие не приносит облегчения. Ведь стыд Мидзогути — не переходный этап, не ученичество, не детская болезнь индивидуальности. Он не имеет выхода — разве что унести с собой весь мир: «Надо уничтожить всех других людей. Для того чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу, мир должен рухнуть…» Золотой храм, воплощение прекрасного, — символ существующего порядка вещей. Потому-то Мидзогути и хочет его уничтожить, но для этого ему сначала нужно воспитать в себе ненависть к красоте, открыть, до какой степени она являет собой «макет небытия».
Итак, он не может удовлетвориться тем, чтобы возвести экран между собой и другими. Чтобы попытаться излечиться от стыда злом, ему нужно еще выровнять весь мир вокруг себя. Его цель — научиться «сводить [свое] уродство к нулю»: «Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? Почему, увидев изнанку нашего тела, мы в ужасе закрываем глаза? Почему человека потрясает зрелище льющейся крови? Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевой юной кожей?.. […] Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку — грациозно, словно переворачивая лепесток розы, — и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка…»
Разрушить красоту — это одновременно значило бы разрушить наготу, отвернуться от боговдохновенного мига, когда мимолетная красота кажется вечной, а дух торжествует над плотью. Это значило бы избавиться от анонимности и невидимости: «Никто не обращал на меня внимания. Никто не обращал на меня внимания все двадцать лет моей жизни, так что ничего странного в этом не было. Моя персона еще не представляла никакой важности. Я был одним из миллионов и десятков миллионов людей, которые тихо существуют себе в нашей Японии, ни у кого не вызывая ни малейшего интереса».
Таким образом, согласно Мисиме, есть два способа уйти от стыда: цинизм и терроризм. Как бы то ни было, стыд — это всегда насилие. Кроме того, это коллективная травма. Молодой Мидзогути принадлежит к поколению капитуляции и позора. Действие романа начинается в конце войны, незадолго до разгрома Японии, и заканчивается корейским конфликтом: «25 июня началась война в Корее. Мое предчувствие надвигающегося конца света оказалось верным. Надо было спешить». Сюжет книги основан на реальном событии. Но предложенная Мисимой стыдологическая гипотеза, как и ненависть к другому, которая в первую очередь оказывается стылом самого себя, под его пером приобретает историческую значимость.
* * *
Еще более явственно внугреннее переживание великой Истории и сопутствующей ей цепной реакции стыда выступает в романе Кутзее «Бесчестье», построенном как наложение двух рассказов. Первый, который сначала кажется более важным, тем более что именно он дал название книге, повествует о бесчестье университетского профессора Дэвида Лури, вынужденного выбирать между отставкой или публичным покаянием после поступившей на него жалобы: его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к студентке. Профессор отказывается подчиниться и подает в отставку. Но для моей темы более значим второй рассказ: дочь профессора Люси, белая женщина в Южной Африке, изнасилована неграми; она являет собой подлинный образец стыдливой, оскверненной жертвы, невинной виновной, которая взяла на себя всю грязь и соответственно не может обвинять своих палачей. При встрече с полицейскими она может говорить об ограблении, о травмах, нанесенных ее отцу, о застреленных собаках — но только не о совершенном над ней насилии.
Поэтому отец не может не задаваться вопросом: «„Господи Боже, что теперь будет?“ Будет тайна Люси и его бесчестье»[35]. Он так чувствителен к стыду дочери потому, что сам столкнулся с бесчестьем. Но в определенном смысле ситуация, в которую он попал, в результате оказавшись опозоренным, была относительно более простой. Люси же испытывает тройной стыд: стыд быть гомосексуалисткой, стыд быть изнасилованной, стыд быть белой. Она оказывается под ударами трех форм социального стыда, пол взглядами трех категорий других — гетеросексуалов, мужчин (в том числе собственного отца) и африканцев.
Как следствие, несмотря на уговоры отца, Люси больше не желает отправляться на рынок: «Люси не отвечает. Ей не хочется показываться на люди, и он [Дэвид. — Пер.] знает почему. Из-за бесчестья. От стыда. Вот чего добились ее визитеры, вот что они сделали с этой уверенной в себе, современной молодой женщиной. Рассказ о содеянном ими расползается по здешним местам, как грязное пятно. Не ее рассказ — их, хозяев положения. Рассказ о том, как они поставили ее на место, как показали ей, для чего существует женщина». Отец настаивает («Почему ты не рассказала им всего, Люси?»), но Люси замыкается в упорном молчании («Я рассказала им все. Все — это то, что я им рассказала»), и ее защиту не преодолеть никаким аргументам. Дэвид трезво анализирует ситуацию: «Эти люди будут следить за газетами, прислушиваться к разговорам. И прочитают, что их разыскивают за ограбление и вооруженное нападение — и только. Тут до них дойдет, что тело той женщины укрыто, как одеялом, молчанием. „Стыдно стало, — скажут они друг другу, — вот и помалкивает“, — и будут смачно гоготать, вспоминая свои подвиги. Готова ли Люси порадовать их подобной победой?»
История жертвы, которую принесла Люси, встраивается в цепь событий большой Истории. Происходит короткое замыкание. «Ты хочешь унизиться перед историей, — пишет ей отец. — Но путь, на который ты ступила, неверен. Он лишит тебя какой бы то ни было чести; ты не сможешь жить в мире с собой. Умоляю, прислушайся к тому, что я говорю». Рыдания белой женщины обостряют ненависть к себе. Постколониальная литература вызывает инверсию стыда. Чтобы описать этот процесс осознания исторической вины, следовало бы ввести термин, параллельный «добровольному рабству», — что-то вроде добровольного или жертвенного стыда.