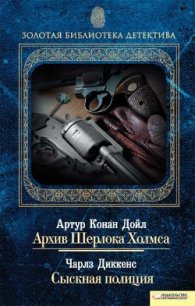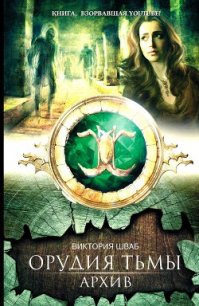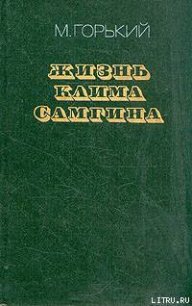Узники Cоловецкого монастыря - Фруменков Георгий Георгиевич (смотреть онлайн бесплатно книга .TXT) 📗
Из документальных материалов видно, что Патока еще перед тем, как у него вырезали язык, «паки крыча, сказывал за собой великие дела (какие именно — неизвестно. — Г. Ф.), но того у него, по приговору сенатскому, ради его вышеписанного же сумасбродства и ложных доношений, не принято» [48].
Нам представляется вполне основательным предположение П. Ефименко о том, что Патока раскрыл перед сенатом известные ему тайны относительно графа Головкина, барона Шафирова и других высокопоставленных сановников империи [49].
Не секрет, что в бурные годы преобразований первой четверти XVIII века многие видные государственные мужи, в том числе такие, как Меньшиков, Головкин, Шафиров и другие, были нечисты на руку. В литературе неоднократно раздавались голоса о том, что руководитель дипломатического ведомства и его заместитель знали о готовящейся измене Мазепы и молчаливо одобряли коварные замыслы «украинского ляха» потому, что получали от него взятки, которыми округляли свое «скромное» государево жалование. Так что Патока в этом отношении не одинок. Произнесенное им в монастыре слово и дело об измене и бунте Головкина и Шафирова не может вызвать большого удивления. Очевидно, Патока, по характеру своей работы связанный с перепиской всякого рода деловых бумаг, как и другие представители «канцелярского воинства» (Орлик, Глуховец, Кожчицкий), располагал кое-какими сведениями об измене гетмана и участии, прямом или косвенном, в мазепинском заговоре петербургских вельмож.
Шафирову и ему подобным нужно было заставить своего обличителя замолчать. Поэтому Патоке перед отправкой в Соловки отрезали язык. Но жестокое наказание не достигло цели. Искатель справедливости, неугомонный казачий писарь из Лубен даже без языка сумел крикнуть всенародно слово и дело государево на Головкина и Шафирова. Замешанные в заговоре Мазепы дельцы не исключали такой возможности. Они были предусмотрительными людьми. Начальнику соловецкой тюрьмы предписывалось не обращать внимания на произносимые несчастным узником слова, но местные «блюстители порядка» не проявили должной сообразительности.
Архангелогородская губернская канцелярия всегда, как известно, отличавшаяся пунктуальным выполнением инструкций центра о содержании секретных арестантов, на этот раз перестаралась в своем усердии. Невольные свидетели происшествия 8 февраля 1724 года монах Никанор и солдат Рышков, слышавшие «блевание» Патоки, распоряжением губернской канцелярии были брошены в застенок.
Однако Петербург распорядился предать забвению дело Патоки, а самого писаря держать по-прежнему в башенном каземате под крепким караулом. Пришлось выпустить на свободу свидетелей слова и дела, объявленного арестантом Корожанской башни. Перед Никанором и Рышковым распахнулись двери тюрьмы, в которой они просидели без всякой вины более года.
Местные власти не ожидали такого решения. Их недоумение понятно. Распоряжение высшего начальства было беспрецедентным.
Губернская канцелярия заключила, что Захар Патока хорошо известен правительству как неуемный ябедник и сутяга, одержимый страстью к политическим доносам. Но с точки зрения историка русско-украинских взаимоотношений действиями Патоки руководили благие намерения и патриотические побуждения. Писарь из Лубен осуждал авантюру предателя интересов своего народа Мазепы, хотел раскрыть перед стоящими у власти известные ему тайны батуринского заговора и назвать имена русских пособников «украинского ляха».
Приходится сожалеть, что Патоке не удалось осуществить своего замысла. Можно думать, что сведения, которыми он располагал, обогатили бы наши знания о заговоре Мазепы, казачьей старшины и близких к гетману лиц.
Захар Петрович Патока был замучен монахами и унес с собой известные ему секреты.
Еще немало сынов «плодовитой матки казацкой» заключали в себе в XVIII веке стены Соловецкой крепости, но самым известным среди них был Петр Иванович Кальнишевский — последний кошевой Запорожской Сечи. Он занимал свой пост с 1765 года до самой ликвидации «казацкого государства», то есть десять лет подряд, чего до тех пор в коше «из веку веков не бывало».
За спиной Кальнишевского стояла казачья старшина, ставленником которой он был. Выходец из дворянского рода, лично богатый человек [50], Кальнишевский верой и правдой служил русскому правительству, хотя межевые тяжбы царизма с выборным правительством Сечи в последние десятилетия существования коша осложняли взаимоотношения сторон.
Были, конечно, доносы и на Кальнишевского. В «просвещенный» век Екатерины, когда доносы поощрялись правительством и общество было заражено ими, никто не мог быть застрахованным от обвинений в государственном преступлении.
В январе 1767 года полковой старшина Павел Савицкий собственноручным письмом ставил в известность Петербург, что кошевой атаман вместе с войсковым писарем и войсковым есаулом готовятся в ближайшие месяцы изменить России, коль скоро не решатся в пользу коша пограничные споры. Если верить доносителю, высшая старшина уже договорилась «выбрать в войске двадцать человек добрых и послать их к турецкому императору с прошением принять под турецкую протекцию».
Насколько позволяют судить материалы, правительство не дало движения этому документу. Оно считало его клеветническим и не сомневалось в преданности кошевого. Мы «никогда наималейшего сомнения иметь не могли о вашей со всем войскам к нам верности», — писала Екатерина II Кальнишевокому 19 декабря 1768 года [51]. Поэтому никто не подвергался предварительному дознанию по доносу Савицкого. Кошевому никогда не ставилась в вину подготовка государственной измены. Он так и умер, не зная о доносе Савицкого. Донос сдали в архив и, как несправедливый, вложили в папку, в которой подшиты распоряжения 1801 года о даровании Кальнишевскому свободы.
Вместе с запорожским войском Кальнишевский сражался с крымскими татарами и турками в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. За храбрость он был награжден в середине кампании золотой медалью, осыпанной бриллиантами, а войску запорожскому объявлена благодарность.
Никто иной, как Г. Потемкин, за три года до падения Сечи, в котором он сыграл такую роковую роль, свидетельствовал свое уважение и любовь войску запорожскому, подчеркивал свою всегдашнюю готовность находиться в услужении «милостивого своего батьки», как называл он льстиво кошевого.
В 1772 году Потемкин разыграл такой фарс: он попросил Кальнишевского записать его в казаки, что было с охотой исполнено.
Не скупился на комплименты кошевому новороссийский генерал-губернатор и в дни победоносного окончания войны. «Уверяю вас чистосердечно, что ни одного случая не оставлю, где предвижу доставить каковую-либо желаниям вашим выгоду, на справедливости и прочности основанную», — так писал Потемкин Кальнишевскому 21 июня 1774 года. Не прошло после этих велеречивых излияний и года, как Сечь, по распоряжению того же Потемкина, была разрушена, а кошевой арестован.
4 июня 1775 года сильный отряд под начальством П. А. Текеллея нежданно-негаданно нагрянул на Сечь и разорил ее. Кошевой атаман Кальнишевский, войсковой писарь Глоба и войсковой судья Головатый были пленены и взяты под стражу, а имущество их, так же как и войсковое, подвергнуто описи.
3 августа 1775 года был издан указ Екатерины II, в котором объявлялось, что «Сечь Запорожская вконец уже разрушена, с истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков, не менее как за оскорбление нашего и. в. через поступки и дерзновения, оказанные от сих казаков в неповиновение нашим высочайшим повелениям» [52].
О Кальнишевском манифест умалчивал. После ареста кошевой исчез неведомо куда. Никто не знал — ни родственники, ни друзья, где находится Кальнишевский и жив ли он вообще.
48
АГВ, 1875, часть неофициальная, Э 21.
49
«Киевская старина», кн. 9 (сентябрь), Киев, 1882, стр. 406.
50
При аресте Кальнишевского в его зимовниках (хуторах) было описано 639 лошадей, 1076 голов крупного рогатого скота разного возраста, 14045 овец и коз, 2175 пудов пшеницы и ржи (см.: «Очерки истории СССР. XVIII век. Вторая половина». Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 586).
51
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. Ч. III. Изд. 2-е. Одесса, 1846, стр. 8
52
ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 55, 1775, д. 402, л . 2.