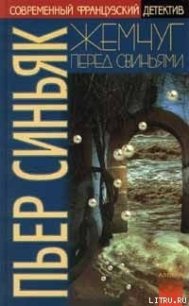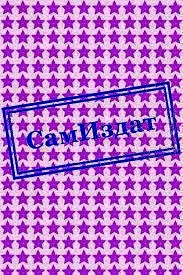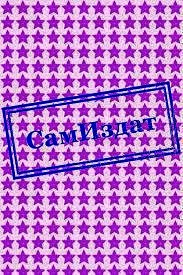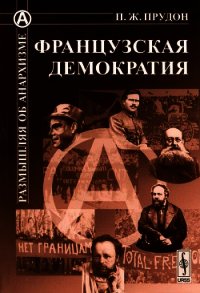Утопический капитализм. История идеи рынка - Розанваллон Пьер (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Вот почему моральная философия может существовать лишь как наука о законах человеческой природы. «И наука об этих законах есть истинная и единственная моральная философия», – заявлял еще Гоббс [32].
Таким образом, невозможно помыслить социальный порядок вне этой науки о страстях. В ней его единственно возможное прочное основание.
Эта концепция знаменует значительный сдвиг в отношении проблемы политического. Политика как институциирование социального не может рассматриваться как выводимая из морали. Теперь уже недостаточно надеяться упорядочить страсти при помощи разума, как того еще желал Декарт в трактате «Страсти души». Гоббс напишет по этому поводу в «Левиафане»: «Хотя философы-моралисты признают указанные добродетели и пороки, они, не видя, чем именно добродетели хороши и что хвалят их как средства мирной, общительной и приятной жизни, усматривают все их содержание в умеренности страстей; так, словно бы степень дерзновения, а не его причина составляет силу души» [33].
Таким образом, начиная с XVII века начинает утверждаться идея о том, что институциирование и функционирование общества следует мыслить, исходя из человеческих страстей, а не вопреки им.
Поэтому политика – не что иное, как комбинаторное искусство страстей. Ее цель – комбинировать человеческие страсти таким образом, чтобы обеспечить функционирование общества. Начиная с XVII века арифметика страстей становится средством дать прочное основание идеалу общего блага схоластической мысли. Страсти – вот материал, с которым работает политика. «Сила и прозорливость, а также труды и заботы политика, сделавшего общество цивилизованным, нигде так ярко не проявлялись, как в удачном изобретении – заставить наши аффекты противодействовать друг другу» (la Fable des abeilles, remarque N. P. 116) [34].
Точно так же изначальное институциирование общества может мыслиться лишь в этих терминах. Если человек есть «средоточие различных страстей» (Mandeville. Р. 41) [35], то институциирование социального не может быть ничем иным, кроме результата необходимым образом организованного сочетания страстей.
В этом смысле, всю эпоху современности [modernité], в разных ее аспектах, можно понимать как попытку найти ответ на этот вопрос об институциировании социального. Гоббс и Руссо, Мандевиль и Смит, Гельвеций и Бентам дают различные ответы на один и тот же единственный вопрос.
Мой тезис заключается в том, что «Левиафан» и «О богатстве народов» следует читать под одним и тем же углом зрения. Или, если угодно, что общественный договор и рынок есть лишь два варианта ответа на один и тот же вопрос. «Левиафан» – ответ политический; «О богатстве народов» – ответ экономический. Если быть еще более точным, я постараюсь показать, что рынок в конце XVIII века представляется как глобальный ответ на вопросы, которые теории общественного договора оказались не в состоянии операционально и удовлетворительно разрешить. Поэтому продолжение этой главы будет посвящено анализу политических ответов на вопрос об институировании социального, от Гоббса до Руссо.
Разработанное в XVII веке теоретиками естественного права понятие общественного договора получает широкое распространение в XVIII веке. В этот период большим влиянием пользуется теория общественного договора в ее классической форме – как договора о подчинении. Она практически входит в число категорий здравого смысла.
Локк и Руссо придадут ей новый смысл. Но известно, что уже у Гоббса и Пуфендорфа это понятие обладало очень разным содержанием. В каком-то смысле всех политических философов XVII и XVIII веков можно было бы изучать на основании их теорий общественного договора. Но не в этом состоит собственный предмет нашей работы.
В то же время нам кажется важным показать, каким образом эти разные концепции общественного договора в конечном итоге основываются на несхожих представлениях о естественном состоянии и о человеческих страстях. Гоббса и Пуфендорфа, Локка и Руссо можно, таким образом, рассматривать в едином ключе. У них одна и та же задача: они рассматривают вопрос об институциировании общества на одном и том же единственном основании реалистической науки о человеке.
Как и Макиавелли, Гоббс отказывается от поиска хорошего общества. Он присоединяется к макиавеллиевской критике утопической традиции. Но в то же время Гоббс отвергает реализм Макиавелли, который предлагает заменить традиционные моральные добродетели на добродетели чисто политические. По яркому выражению Лео Штрауса, оригинальность Гоббса состоит в том, что он «пересадил естественный закон на почву макиавеллиевской теории» (Droit naturel et histoire. P. 197) [36]. Гоббс попытается таким образом сохранить идею естественного закона, при этом отделяя ее от идеи человеческого совершенства. Он использует философское учение о естественном законе, понимая его как учение о естественном состоянии. Он переворачивает концепцию естественного права, заменяя традиционную оппозицию «естественное состояние / состояние благодати» на оппозицию «естественное состояние / гражданское общество». Именно в этом перевороте выражается движение современности [modernité], которое стремится божественное установление заменить установлением человеческим. Отныне не божественная благодать, но хорошее правление способно стать лекарством от болезней естественного состояния.
Поэтому естественный закон следует искать не в предназначении человека, но в его происхождении. Таким образом, Гоббс создает совершенно новый тип политической доктрины: он отталкивается от естественных прав, а не от естественных обязанностей, как это делалось до него. Между тем, с его точки зрения, не разум, а страсти имеют наибольшую власть над человеком. Следовательно, естественный закон будет совершенно неэффективен, если его принципы вступают в противоречие со страстями; именно поэтому естественный закон должен выводиться из самой могущественной из всех страстей. Гоббс – реалист. С его точки зрения, общество невозможно помыслить вне этого радикального реализма.
И Гоббс констатирует, что естественное состояние есть состояние войны, что «люди влекомы своими естественными страстями к тому, чтобы сталкиваться друг с другом» (Le Corps politique. 1-re partie, ch. I, § 4). Вопрос об институциировании социального, таким образом, смешивается у него с вопросом об установлении мира. Перейти от естественного состояния к гражданскому обществу означает перейти от войны к миру. В этом пункте Гоббс очень близок к Макиавелли. Как и Макиавелли, он выводит свое учение из наблюдения крайних случаев: свою философию естественного состояния он основывает на опыте гражданской войны. Но его философия отмечена одним существенным отличием от макиавеллиевской мысли, к которому мы в дальнейшем еще вернемся: то, что Макиавелли описывал как имеющее место в гражданском обществе, Гоббс делает характеристикой естественного состояния. Тем самым он сводит макиавеллиевскую проблематику власти и политики к одному лишь моменту институциирования общества.
Итак, для Гоббса «состояние людей в условиях естественной свободы» – это состояние войны (Le Corps politique. 1-re partie, ch. I, § 11). И это состояние войны не может быть преодолено с помощью разума. Преодолеть его – и в едином движении установить мир и институциировать общество – можно лишь благодаря еще более могущественной страсти. С точки зрения Гоббса, такой уравновешивающей и спасительной страстью является страх смерти, или стремление к самосохранению. Именно «естественное стремление к самосохранению» позволяет основать общество. Людям удается образовывать политические тела именно потому, что они боятся, что иначе они не смогут сохранить себя надолго. Образуя политическое тело, они утверждают гражданский мир, который является условием выживания всех и каждого: «Та страсть, которая движет нами, когда мы пытаемся приспособиться к интересам другого, должна быть причиной мира» (Le Corps politique. 1-re partie, ch. III, §10). Но этот мир не может быть обеспечен лишь присущей каждому страстью к сохранению самого себя. Он должен быть институциирован и гарантирован; единственным средством к этому является установление «высшей и общей власти, которая могла бы заставить отдельных людей соблюдать установленный мир и объединять свои силы против общего врага» (Le Corps politique. 1-re partie, ch. VI, § 6).