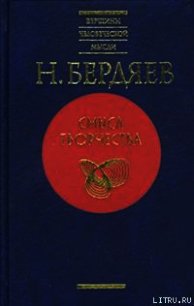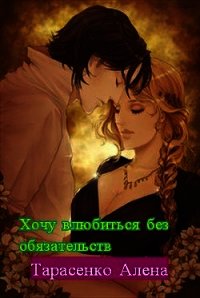Sub specie aeternitatis - Бердяев Николай Александрович (читать книги онлайн бесплатно полностью без .txt) 📗
Вся трудность и ответственность нашего положения в оценке русской революции и всех новейших революций и вся наша жажда воссоединения политики с религией в том коренится, что мы не можем смотреть на исторический процесс, как на отмирание зла и торжество добра, просто как на улучшение, в котором все, чему мы говорим «нет», — в прошлом, чему говорим «да»6*, — в будущем. Для нас будущее двойственно, в нем грядет не только небывалое добро, но и небывалое зло, в нем должны разделиться для последней битвы противоположные начала мировой жизни. Есть не только зло первичное, начальное, с которым ведется освободительная война, но и зло последнее, конечное, которое не побеждается, а лишь выявляется прогрессом. В этом — трагедия мировой истории и невозможность чисто человеческого ее разрешения. Этот мир нельзя так усовершенствовать и устроить только человеческими, рациональными путями, чтобы исчезло в нем мировое зло (не моральное, а религиозно–метафизическое зло), чтобы он укрепился навеки, реформированный до совершенства.
В революции сходится великая правда, святое освобождение человечества от изначального порабощающего зла, с двумя неправдами: неправдой прошлого, безбожной государственностью, самодержавием, преступно отрицавшим безусловное значение человеческого лица, и неправдой будущего, религией земного устроения человечества вне Бога и против Бога, всеобщим обезличением, новой безбожной государственностью, нарождающейся уже в позитивной социал- демократии. Мистический смысл революции в том, что два зверя встретились в ней лицом к лицу и в таинственной какой‑то точке совпали: первобытный зверь, отпечатлевший свою бесчеловечную и безбожную природу на насильственных государствах, на чудовищах— Левиафанах7", на царях земных, на всех преступлениях, совершаемых сильными и властвующими, и конечный зверь, зарождающийся в идеалах человеческого муравейника, окончательного устроения, принудительного счастья, за которое продается вечность и свобода, в религии небытия, провозглашаемой позитивизмом.
С двумя образами зверя должна равно бороться вечная правда революции. Такой правдой является прежде всего провозглашение свобод, восстание против всякого превращения личности в предмет, декларация прав человека, которая и исторически имеет религиозное происхождение, родилась в религиозных общинах Англии. Тут религиозный корень политики, который есть и у конституционно–демократической партии и у других освободительных партий, но не религиозная политика еще, не то воссоединение в полноте, о котором мы мечтаем. Человеческое лицо имеет абсолютную ценность, как сосуд, вмещающий божественную бесконечность, и не может быть подчинено таким фиктивным, не божеским и не человечным ценностям, как государственность, национальность, утилитарная общественность, противополагать ему, как высшее, можно только Бога и соединение в Боге.
Русская государственность, от которой мы теперь кровавыми усилиями отрываемся, которую должны преодолеть, чтобы не погибнуть окончательно, была самым крайним, самым чудовищным, в истории еще невиданным утверждением «отвлеченного» политического начала. Самодержавие соединило себя кощунственно с православием, получило по видимости религиозную санкцию, и все наши консерваторы, ныне откровенные черносотенцы8* и хулиганы, исповедовали свою веру в формуле «самодержавие, православие и народность»9*, но мы встречаем здесь самый яркий пример религиозного обоготворения государства, признание государственности ценностью высочайшей. Этот абсолютный цезаризм не христианского происхождения, он исторически унаследован от языческого Рима через Византию, от первобытной языческой Руси, и религиозно непримирим с царством Христа. Кесарю поклонились, как Богу, государству, как церкви, политике, безбожной и бесчеловечной, поработили человека, образ и подобие Божие. Тут фикция государственности и связанной с ней национальности, оторванная от религиозного центра бытия, отвлеченная от всех человеческих и божеских ценностей, ведет самостоятельное существование Зверя–Левиафана, существование призрачное, истинную жизнь умерщвляющее. Только Бог может быть поставлен выше человека, только божественным ценностям могут подчиняться ценности человеческие, а государство, национальность, бытовые особенности, старые устои, которым поклоняется наш консерватизм, которые он возлюбил превыше Бога и человека, ведут к настоящему культу сатанизма. Черная сотня и черное наше правительство отслужило уже по всей России свою черную мессу.
15 Н. Л. Бердяев
Русская насильственная государственность есть организованное преступление, организованное попирание Божеских и человеческих законов, и страшная звериная морда, которую открыла теперешняя реакция, ясно говорит, какая религия скрывается под самодержавием, вступившим в историческую сделку с православием. Казалось бы, религиозный человек, возлюбивший Бога и Христа утвердивший в центре всего, должен говорить: да погибнет нация, государство, весь устроенный быт, все призрачные ценности земные, если они покупаются ценою попирания заповедей Божьих, если безбожные преступления должны во имя их совершаться. Но исповедующие религию отвлеченной государственности более всего полюбили порядок на земле, устроение своего быта. Религия государственности, к которой сводится русский консерватизм, всегда смотрит на человеческое лицо, как на средство, как на орудие для «высших» государственных, национальных, бытовых и т. п. призрачных ценностей. Нет таких кровавых человеческих жертв, пред которыми остановилась бы эта религия государства, все дозволено для отвлеченной политики консерватизма, нет пределов истязаниям над человеком, совершаемым во имя Левиафана. Союз самодержавия с православием, государства с церковью не одухотворил и не освятил государства, а, наоборот, умертвил святость церкви, обездушил ее. И осталось государство безбожным, бесстыдным и звериным, служащим не Богу и человеку, а третьему, источнику зла в мире.
Поразительно, что то же безбожное и безличное, насильническое государственное начало, та же неправедная, «отвлеченная» политика появляется и на полюсе противоположном. Неправда революции — во взгляде на всякое данное человеческое поколение лишь как на средство для поколений будущих, на человеческую личность, как на средство для блага человеческого общества, для новой государственности. И реакция, и революция сначала отрывают политику от вечных ценностей, делают ее безбожной, а потом все ценности подчиняют политике, превращают политику в ложного бога. И проглядывает морда все того же зверя. И реакция, и революция одинаково расценивают все содержание жизни по критериям политическим, по полезности для целой государственности, старой или новой, и ничего не признают самоценным. Неправедно разжигать «отвлеченные» политические страсти, черносотенные или красносотенные, так как это путь озверения, а не очеловечения. Нет красоты в лицах, искаженных злобой политической, и красивы лица, горящие негодованием человеческим. Неправедно политику признавать центром жизни, ничем не одухотворять плоть политическую, ей подчинять все богатство бытия. Неправеден путь борьбы политических партий, оторванных от центра жизни, от смысла ее. Неправедна жажда политической власти и господства, опьяняющая современные общественные силы. Довести политику, как таковую, до крайнего минимума, до окончания политики, до растворения ее в культуре и религии — вот что должно быть нашим регулятивом, вот хотенье наше, вот истинное освобождение. Политическое освобождение есть освобождение от политики. Нельзя убить зверя политики, зло старой государственности, одной «отвлеченной» политикой, новой государственностью. Нужно государственности, насилию, власти, «отвлеченной» политике противопоставить иное начало внегосударствен- ное, иную не насильственную общественность, не новое политическое насилие, а свободу иных путей. Нужно зверя не зверем укротить и уничтожить, а высшей мощью, все звериное низвергающей и преображающей. Глубокая и вечная правда была сказана Л. Толстым о государстве, о звере политики, о безбожии насильниче- ства. В этом мы должны учиться у Л. Толстого, признать его более христианином, более себе близким, чем Достоевского, Вл. Соловьева и из новых Мережковского (который только в самое последнее время стал на верный путь). Но нам чужд и далек религиозный рационализм Л. Толстого и его отношение к культуре. Новой религиозной общественности толстовство не может создать, не может вести к ней, так как правда толстовская лишь критическая и творчество религиозной мистики отрицающая. Из мыслителей европейских относительная, но недостаточно замеченная правда есть у Прудона, в его все же идеалистическом анархизме, в его пути внегосударственного общественного созида-