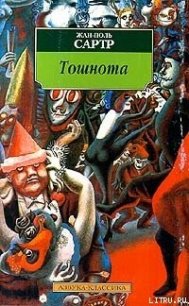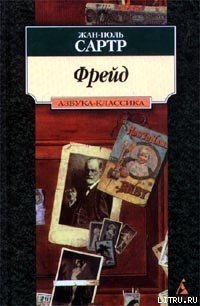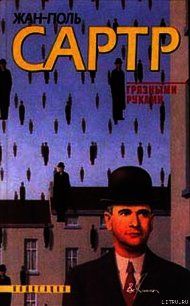Бытие и ничто - Сартр Жан-Поль Шарль Эмар (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Если одно из этих измерений исчезает, исчезает также и стыд. Однако если я понимаю «кого-то», перед которым я имею стыд, тогда он не может стать объектом, не распыляясь во множество других; и если я полагаю его как абсолютное единство субъекта, который ни в коем случае не может стать объектом, я полагаю этим самым вечность моего бытия-объекта и увековечиваю свой стыд. Это и есть стыд перед Богом, то есть признание моей объектности перед субъектом, который никогда не может стать объектом; я сразу же реализую и гипостазирую в абсолют мою объектность; полагание Бога сопровождается вещизмом моей объектности; точнее, я полагаю свое бытие-объекта-для-Бога как более реальное, чем мое Для-себя; я существую отчужденным и даю о себе знать посредством моего внешнего, тем, чем я должен быть. Это и есть источник страха перед Богом. Колдовство, надругательство над жертвами, дьявольские союзы и т. п. являются также и усилиями, цель которых — придать характер объекта абсолютному Субъекту. Желая Зла ради Зла, я пытаюсь созерцать божественную трансцендентность, собственной возможностью которой является благо, как чисто данную трансценденцию, которую я трансцендирую к Злу. Тогда я «делаю страдающим» Бога, я его «раздражаю» и т. д. Эти попытки, предполагающие абсолютное признание Бога как субъекта, который не может быть объектом, носят в себе самих противоречие и всегда терпят крах.
Сама гордость не исключает первоначального стыда. Как раз на почве фундаментального стыда или стыда быть объектом она и создается. Это двусмысленное чувство: в гордости я признаю Другого в качестве субъекта, посредством которого объектность приходит к моему бытию, но я себя признаю, кроме того, ответственным за мою объектность; я ставлю акцент на моей ответственности и принимаю ее на себя. В определенном смысле гордость есть, следовательно, вначале смирение; чтобы быть гордым этим бытием, необходимо, чтобы я вначале смирился быть только этим. Речь идет, таким образом, о первой реакции на стыд, и это уже реакция бегства и самообмана, так как, не прекращая считать Другого субъектом, я пытаюсь постигнуть себя как воздействующего на Другого своей объектностью. Одним словом, есть две подлинные позиции: позиция, посредством которой я признаю Другого в качестве субъекта, через которого я прихожу к моей объектности, — это и есть стыд; и позиция, посредством которой я постигаю себя как свободный проект, через который Другой приходит к своему бытию-другого, — это гордость или утверждение моей свободы перед Другим-объектом. Но гордость, или тщеславие, является неуравновешенным чувством и самообманом; я пытаюсь в тщеславии действовать на Другого, поскольку я являюсь объектом; эту красоту, или силу, или ум, которые он мне придает, поскольку конституирует меня в объект, я намереваюсь использовать рикошетом, пассивно вызывая у него чувство восхищения или любви. Но, кроме того, я требую, чтобы в качестве санкции моего бытия-объекта Другой испытывал это чувство и в силу того, что он является субъектом, то есть как свободу. Это единственный способ придать абсолютную объективность моей силе или моей красоте. Таким образом, чувство, которое я требую от Другого, несет в себе свое собственное противоречие, так как я должен воздействовать им на Другого, поскольку он свободен. Это чувство испытывается в виде самообмана, и его внутреннее развитие приводит его к распаду. В самом деле, чтобы использовать мое бытие-объекта, которое я беру на себя, я пытаюсь его возобновить как объект; и поскольку Другой является здесь ключом, я пытаюсь овладеть Другим, чтобы он раскрыл мне секрет моего бытия. Следовательно, тщеславие толкает меня на захват Другого и конституирование его как объекта, чтобы отыскивать внутри этого объекта и открывать там свою собственную объектность. Но это значит пилить сук, на котором сидишь. Конституируя Другого как объект, я конституируюсь как образ в середине Другого-объекта; отсюда разочарование в тщеславии: этот образ, который я хотел постигнуть, чтобы его возобновить и смешать с моим бытием, больше мною не признается; я должен волей-неволей приписать его Другому как одно из его субъективных свойств; освобожденный вопреки себя от своей объект-ности, я остаюсь один напротив Другого-объекта в своей невыразимой самости, которую я имею в бытии, не будучи в состоянии никогда освободиться от своей активности.
Стыд, страх и гордость являются, стало быть, моими первоначальными реакциями; они есть лишь различные способы, которыми я признаю Другого в качестве субъекта вне моей досягаемости, и включают в себя понимание моей самости, которая может и должна служить мне мотивацией для конституирования Другого в объект.
Этот Другой-объект является мне внезапно, он вовсе не остается чистой объективной абстракцией. Он возникает передо мной со своими личными значениями. Он не есть только объект, свобода которого является свойством как трансцендированная трансцендентность. Он является также «гневным», или «радостным», или «внимательным», он «симпатичен» или «антипатичен», «скуп», «вспыльчив» и т. д. Это значит в действительности, что, постигая сам себя, я делаю так, что Другой-объект существует в середине мира. Я признаю его трансцендентность, но я ее признаю не как трансцендирующую трансцендентность, а как трансцендированную трансцендентность. Она появляется, таким образом, как возвышение орудий к определенным целям в той степени, в какой я возвышаю в едином проекте самого себя к этим целям, этим орудиям и к этому возвышению Другим орудий к целям. В действительности я никогда не постигаю себя абстрактно как чистую возможность быть самим собой, но я живу моей самостью в конкретной проекции к такой или такой-то цели; я существую только как ангажированный (engagé) и имеющий сознание бытия как такового. На этом основании я постигаю Другого-объекта только в конкретном и ангажированном возвышении его трансцендентности. Но соответственно ангажированность Другого, которая есть его способ бытия, является для меня, поскольку она трансцендируется моей трансцендентностью, как реальное включение (engagement), как укоренение. Одним словом, поскольку я существую для-себя, мое «включение» в ситуацию должно пониматься в том смысле, в каком говорят: «Я обязан (engagé) такому-то человеку, я обязан вернуть эти деньги и т. д.». Именно эта ангажированность характеризует Другого-субъекта, поскольку он есть другое я. Но эта объективная ангажированность, когда я постигаю Другого как объект, деградирует и становится ангажированностью-объектом в том смысле, в каком говорят: «Нож глубоко проник (engagé) в рану; армия занята (engagée) строевым смотром». Нужно понять, что бытие-в-середине-мира, которое приходит к Другому через меня, есть реальное бытие. Вовсе не чистая субъективная необходимость дает мне знать о нем как о существующем в середине мира. Однако вместе с тем Другой не сам оказывается потерянным в этом мире. Я заставляю его теряться в середине мира, который является моим, потому что он для меня тот, кого я имею в небытии, то есть потому что я его держу вне себя в качестве чисто созерцаемой и переведенной к моим собственным целям реальности. Таким образом, объективность не есть чистое преломление Другого моим сознанием; она приходит к Другому через меня как реальное определение; я осуществляю то, что Другой находится в середине мира. То, что я постигаю, стало быть, как реальные свойства Другого, и есть бытие-в-ситуации; в самом деле, я его организую в середине мира, поскольку он организует мир к себе; я постигаю его как объективное единство орудий и препятствий. Мы разъяснили во второй части работы [203], что целостность орудий есть точный коррелят моих возможностей. Так как я являюсь своими возможностями, порядок орудий в мире есть образ моих возможностей, проектируемый в определенное в-себе, то есть то, чем я являюсь. Но этот мирской образ я никогда не могу расшифровать, я адаптируюсь к нему в действии и через действие. Другой, поскольку он субъект, подобным образом включен в свой образ. Но поскольку я постигаю его как объект, напротив, именно этот мирской образ бросается мне в глаза; Другой становится орудием, которое определяется своим отношением со всеми другими орудиями; он является порядком моих орудий, который вклинивается в порядок, налагаемый мной на эти орудия; понять Другого — значит понять этот вклинивающийся-порядок и соотнести его с центральным отсутствием, или «внутренностью»; это значит определить указанное отсутствие как застывшее течение объектов моего мира к определяемому объекту моего универсума. И смысл этого течения дается мне самими этими объектами; именно расположение молотка и гвоздей, долота и мрамора, поскольку я перевожу это расположение, не будучи его основанием, определяет смысл этого внутримирского кровотечения. Таким образом, мир объявляет мне о Другом в его целостности и как целостность. Конечно, такое объявление остается двусмысленным. Но это потому, что я постигаю порядок мира к Другому в качестве недифференцированной целостности, на фоне которой появляются некоторые отчетливые структуры. Если бы я мог прояснить все инструментальные комплексы, поскольку они обращены к Другому, то есть если бы я мог постигнуть не только место, которое занимают молоток и гвозди в этом инструментальном комплексе, но еще улицу, город, нацию и т. д., я определил бы ясно и полностью бытие Другого как объекта. Если бы я заблуждался о намерении Другого, то это не потому, что я соотносил бы его жест с недосягаемой субъективностью; эта субъективность в себе и через себя не имеет никакого общего измерения с жестом, так как она является трансцендентностью для себя, непревосходимой трансцендентностью. Все дело в том, что я организую весь мир вокруг этого жеста не так, как он фактически организован. Таким образом, от одного того факта, что Другой появляется как объект, он дается мне в принципе как целостность; он простирается по всему миру, как мирская сила синтетической организации этого мира. Просто я не могу больше разъяснить эту синтетическую организацию, как я не могу разъяснить сам мир, поскольку он есть мой мир. И различие между Другим-субъектом, то есть между Другим таким, каков он есть для-себя, и Другим-объектом не является различием целого в части или скрытого в открытом: ведь Другой-объект в принципе находится полностью в соответствии с субъективной целостностью; ничто не скрыто, и, поскольку объекты указывают на другие объекты, я могу до бесконечности увеличивать мое знание о Другом, бесконечно разъясняя его отношения с другими орудиями мира; и идеалом познания Другого остается исчерпывающее объяснение смысла течения мира. Принципиальное различие между Другим-объектом и Другим-субъектом исходит единственно из того факта, что Другой-субъект совсем не может быть познан и даже представляем как таковой; не существует проблемы познания Другого-субъекта, и объекты мира не указывают на его субъективность; они относятся только к его объективности в мире как смысл внутримирского течения, переведенный к моей самости. Таким образом, присутствие Другого ко мне как того, кто создает мою объектность, переживается как целостность-субъект; и если я обращаюсь к этому присутствию, чтобы его постигнуть, я воспринимаю снова Другого как целостность: целостность-объект в соответствии с миром как целым. И это восприятие происходит сразу, именно исходя из всего мира я иду к Другому-объекту. Но всегда только единичные отношения выделяются как формы на фоне мира. Вокруг этого человека, которого я не знаю и который читает в метро, присутствует весь мир. И не только его тело, как объект в мире, определяет его в бытии; это и его удостоверение личности, и направление движения вагона, в который он сел, и кольцо, которое он носит на пальце. Не в качестве знаков того, чем он является (это понятие знака нас снова отослало бы на самом деле к субъективности, которую я не могу даже понять и в которой он как раз, собственно говоря, ничто, поскольку он есть то, чем он не является, и не есть то, чем он является), но как реальные характеристики его бытия. Только если я знаю, что он находится в середине мира, во Франции, в Париже, занятый чтением, я могу из-за отсутствия возможности видеть его удостоверение личности только предположить, что он иностранец (это означает предположить, что он подвергается контролю, что он фигурирует в таком-то списке префектуры, что с ним нужно говорить на голландском либо на итальянском языке, чтобы получить от него такой-то или такой-то ответ, что международная почта доставляет ему по такой-то или такой-то дороге письма с такими-то и такими-то марками и т. п.). Однако это удостоверение личности в принципе дается мне в середине мира. Оно не избегает меня; в то время, как оно создавалось, оно начинало существовать для меня. Просто оно существует в скрытом состоянии, как каждая точка окружности, которую я вижу как законченную форму. И нужно изменить настоящую целостность моих отношений с миром, чтобы выявить его как отчетливое это на фоне универсума. Таким образом, гнев Другого-объекта, каким он обнаруживается для меня его криками, топаньем и угрожающими жестами, не является знаком скрытого и субъективного гнева; он отсылает не к чему иному, как к другим жестам и крикам. Он определяет Другого, он есть Другой. Конечно, я могу обмануться и принять за действительный гнев то, что является только притворным возбуждением. Но именно только по отношению к другим жестам и другим действиям, постигаемым объективно, я могу обмануться; я заблуждаюсь, если я понимаю движение его руки как реальное намерение ударить меня. То есть я заблуждаюсь, если я интерпретирую намерение в зависимости от объективно раскрываемого движения, а оно не осуществляется. Одним словом, объективно понимаемый гнев является расположением мира вокруг внутримирского присутствия-отсутствия. Можно ли сказать, что следует согласиться с бихевиористами? Конечно нет, так как бихевиористы, если они и интерпретировали человека исходя из его ситуации, то теряли из вида его основную характеристику, которой является трансцендированная-трансцендентность. В самом деле, Другой есть объект, который не может быть ограничен самим собой; это объект, который понимается только исходя из его цели. Несомненно, молоток и пила не понимаются по-другому. То и другое понимаются через их функцию, то есть посредством их цели. Но это потому, что они как раз являются уже человеческими. Я их могу понять, поскольку они указывают мне на орудийную-организацию, центром которой является Другой, поскольку они составляют часть всего комплекса, трансцендированного к цели, которую я трансцендирую со своей стороны. Однако если можно сравнить Другого с машиной, то это потому, что машина, как дело человека, представляет уже след трансцендирован-ной-трансценденции, потому что станки на ткацкой фабрике объясняются только через ткани, которые они производят. Бихевиористская точка зрения должна сместиться, и это смещение оставит незатронутой, впрочем, объективность Другого, так как то, что является вначале объективным (что мы называем значением вслед за французскими и английскими психологами, интенцией вслед за феноменологами, трансценденцией, как у Хайдеггера, или формой, как у гештальтистов), и есть тот факт, что Другой не может определиться иначе, чем через целостную организацию мира, и что он есть ключ этой организации. Следовательно, если я возвращаюсь от мира к Другому, чтобы определить его, это происходит не потому, что мир будет мне разъяснять Другого, но именно потому, что Другой-объект есть не что иное, как центр автономного и внутримирского отношения в моем мире. Таким образом, объективный страх, который мы можем чувствовать, когда воспринимаем Другого-объекта, не есть совокупность физиологических показателей расстройства, которые мы видим или измеряем сфигмографом или стетоскопом; страх — это бегство, исчезновение. И сами эти феномены не даются нам как простой ряд движений, но как трансцендированыая-трансцендентность. Бегство или исчезновение — это не только отчаянный бег через колючие кусты, а также не только тяжелый спуск по камням дороги; это — полное потрясение орудийной-организации, которая для другого была центром. Этот солдат, который бежит, имел только что еще другого-врага на мушке своей винтовки. Расстояние от врага до него измерялось траекторией его пули, и я мог бы постигнуть и трансцендировать это расстояние как расстояние, организующееся вокруг центра «солдат». Но вот он бросает свою винтовку в траншею и спасается. Тотчас его окружает и преследует присутствие врага; противник, который держался на расстоянии траектории пуль, нападает на него в тот самый момент, в который исчезает траектория; в то же самое время тыл-страны, который он защищал и к которому прислонялся как к стене, внезапно поворачивается, открывается веером и оказывается впереди, приветливым горизонтом, к которому он спасается бегством. Все это я констатирую объективно, и именно это я постигаю как страх. Страх является не чем иным, как магическим действием, стремящимся ликвидировать посредством заклинания пугающие объекты, которые мы не можем держать на расстоянии [204]. И как раз через его результаты мы постигаем страх, поскольку он дается нам как новый тип внутримирского кровотечения мира: переход от мира к типу магического существования.