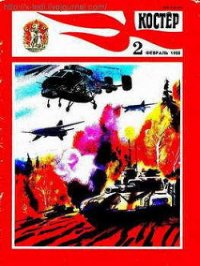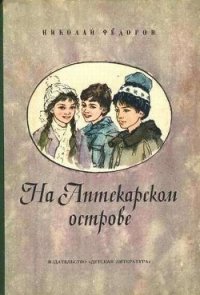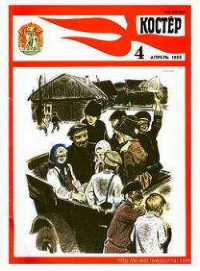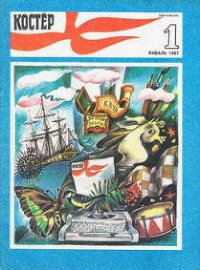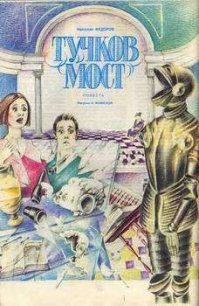Сочинения - Федоров Николай Федорович (читаем книги онлайн бесплатно txt) 📗
Настоящим, действительным просвещением может быть признано не индивидуальное только, но и общее, конкретное, деятельное знание; самоосуждение и есть не просто знание, а знание, соединенное с нравственным чувством, следовательно, деятельное; оно то же покаяние, которым и сама церковь начинает приготовление верующих к воскрешению.
Это приготовление начинается с недели Мытаря и Фарисея 19, когда общество верующих переживает то состояние, которое послужило оправданием Мытарю, т. е. оно так же, как и Мытарь, признает себя грешным и в политическом, и в экономическом, и в естественном отношениях. Следующая затем неделя заставит нас с распростертыми объятиями принять не праведников, а возвращающихся грешников, она возбудит в нас большую радость об одном кающемся, чем о 99 праведниках, и вместе предостережет от признания за собою каких-либо прав, как это сделал старший брат, не покидавший отца.
Подобна этим притчам и притча о работниках, трудившихся один час и получивших такую же плату, как и трудившиеся целый день 20, и если притчам о Мытаре и Фарисее и о Блудном сыне, размышлению о них церковь посвящает по целой неделе, то означенной притче следовало бы отвести две недели, потому что понимание ее слишком трудно в правовом обществе, где зависть возведена в добродетель, где говорится даже: «Кто не защищает свое право, тот и не достоин его». Те, которые находят, что притча в Талмуде о рабочем, получившем за два часа работы столько же, сколько другие за целый день труда, потому что он в два часа сделал столько же, сколько те в 12 часов, гораздо справедливее приведенной евангельской, очевидно, не понимают, что евангельская притча осуждает зависть («или глаз твой завистлив, что я добр»), а притча в Талмуде превозносит качество, успешность работы. Те, которые так думают, и сами принадлежали бы к этим ропщущим рабочим, в притче же о Блудном сыне были бы вместе со старшим сыном, а в притче о Мытаре и Фарисее они были бы с Фарисеем, который такой же ревнитель правды, как и старший сын, и ропщущие рабочие. В своей притче Христос как бы говорит ропщущим: «Л я думал, что вы братья и порадуетесь за ваших братьев, которые получили одинаковую с вами плату!» Не так, как обыкновенно, как вышеизложено, понимал эту притчу Златоуст в известной проповеди «Аще кто благочестив» 21; не так понимала ее и церковь, если дала место этой проповеди Златоуста в Великий день Воскресения. Но если эта проповедь Златоуста сделалась неотъемлемою принадлежностию пасхальной службы, если ни одна из предыдущих не удержалась, ни одна из последующих проповедей не заместила ее, следовательно, проповедь Златоуста составляет наилучшее выражение праздника Пасхи, и потому пасхальную неделю мы можем признать неделею о работниках, трудившихся один час и получивших такую же плату, как и трудившиеся целый день…
Следующая за неделей о Блудном сыне неделя Страшного суда делает каждого своим страшным судиею; представляя взорам картину Страшного суда, она заставляет, так сказать, каждого зрителя назначить себе место в ней, так что сами они представят из себя живую картину этого суда.
Наш церковный год ставит напоминание о Страшном суде прежде Воскресения. Неделя перед постом и первые два дня Страстной посвящены напоминанию суда, тогда как день Пасхи не омрачается напоминанием вечного наказания; оно даже немыслимо при этом. Принимая во внимание, что обряд несравненно труднее изменить, чем догмат (последний чаще рождается из первого, т. е. из обряда рождается догмат), мы можем сказать, что суд как предварительная угроза, а воскресение как предмет труда укоренились в обряде, хотя и не приведенном еще в сознание. Только в так называемых догматических богословиях и катехизисах драма человеческая имеет фатальную развязку в виде deus ex machina; истинная же догматика, выраженная в Символе веры, более сообразна с церковным годом, чем с катехизисами. Цареградский Символ состоит из двух частей, из коих первый оканчивается седьмым членом, говорящим о суде; но затем следует вторая часть о Св. Духе, говорившем чрез пророков (очевидно, в Ветхом завете), в Новом же действующем чрез церковь, и действие это совершается в чаянии достигнуть цели всеобщего воскресения. К этому присоединить следует, что 4-е Евангелие «славным» называет первое пришествие и к этому времени относит и Суд («ныне суд миру сему»); фатальная же развязка есть вымысел книжников и разных академий. Эта фатальность, этот deus ex machina, вносит неразрешимое противоречие в богословие. Только кабинетная ученость могла превратить искупление от смерти, воскресение, в метафору, в какое-то духовное воскресение. Гораздо проще понять, что слово о воскрешении вышло в 1 веке как указ об освобождении, например, крестьян 19 февраля 1861 года; но как этот указ и теперь не вполне еще приведен в исполнение, и теперь еще не все расчеты крестьян с помещиками окончены, так и указ о воскрешении не приведен еще в исполнение. Как крестьяне не даром получают землю (даровое всегда дурно и должно быть выкуплено), так и всеобщее, вселичиое воскрешение есть дело труда всего христианства, всех сил, всех способностей человека, т. е. соединенных науки, искусства и проч. Хотя и народ на масленицу делается фаталистом, как и ученые-богословы, и кутит целым миром, думая: «Коли погибать, так всем погибать», а на Пасху забывает обо всем от радости; но иначе и быть не может, когда народу вместо великого дела дают слова, и только слова, и когда воскресение есть праздное время; народ поневоле предается разгулу всем миром, потому что и хорошее, и дурное само собой придет! Так уже учат его ученые и неученые пастыри!
Все вышеуказанные функции общины: историческая (или психофизиологическая), земледельческая и санитарная — объединяются в труде воскрешения, и эта цель общины заключается в самом ее определении; ибо если государство мы называем отечеством, то и общину, как и все человечество, не можем не называть также отечеством, а этим и определится долг ее относительно отцов, предков и цель ее — воскрешение отцов и вообще прежде живших поколений. А чтобы прийти к еще более точному и убедительному определению цели общины, должно обратиться к ее началу, к ее происхождению.
Страсть, обуявшая в последнее время некоторую часть интеллигенции, походить как можно более на животных, уничтожать всякое различие между этими последними и человеком, мешает трезвому воззрению на начало человеческого общества. (Не только теория Дарвина, но и теория Кювье прилагалась к истории рода человеческого. Теория Кювье нашла свое выражение в культурно-исторических типах, в которых племена превратились в касты без всякой надежды на объединение.) Заметим прежде всего, что фактическая сторона вопроса не изменится от того, скажем ли мы, что в животных есть уже все, что есть в человеке, или же примем, что в человеке есть еще все, что есть в них. Но отстаивающие первое положение тем самым доказывают, что человек не может и не должен выходить из состояния животного, что различие между ними не качественное, а лишь количественное, что средства к прогрессу и у человека остаются те же, как и у животных, т. е. наследственность, борьба, половой подбор и проч., иначе сказать, прогресс совершается лишь путем бессознательным. Второе же положение есть обыкновенный и в то же время самый сильный укор, который бросали в лицо человеку великие провозвестники нравственных истин, пророки, отцы церкви и проч., указывая тем, что задача человека состоит в том, чтобы в нем не осталось ничего животного, т. е. бессознательного. Нужно сделать выбор между этими воззрениями, и от него будет зависеть, составит ли вся история человечества одну страничку в зоологии, или же мысль, осуждающая человека на животное состояние, будет одной строчкой в истории развития ума человеческого. Нельзя не признавать фактов, но не следует преклоняться пред ними! Нельзя не признать, что человек смертен, что в нем много животного и проч., но нельзя сказать, что это и должно быть так, хотя бы мы и желали этого! Нужно сознаться, что животная сторона делает в человеке страшные успехи; в человеке была всегда рабская наклонность выказывать благоговение ко всякому обнаружению силы, ко всякому успеху, как бы безнравствен он ни был; так, поклонился он и этому выражению и усилению животности, мысль же рабски последовала за жизнью, ибо она составляет только ее сознание.