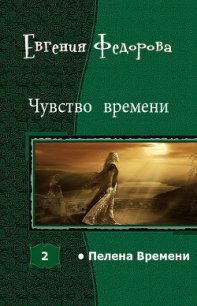Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Так вот, я говорил, что реальность есть отношение между историческим объемом и актуальными, эмпирически данными событиями, восприятиями и т д. И это отношение уникально, оно – только одно, и его нужно открыть. Открывается оно – и заковываются две стороны цепи, как говорит Пруст, метафорой [390]. Или стилем. Или человеком, душой человека, которую я называл сильной классической душой. Которая может держать и на чудовищной скорости движущейся кривой оставаться живой, а не разбиваться в тысяче зеркал, в тысяче осколков зеркала, в тысячах смертей. То, что я сейчас называю стилем и человеком, есть одновременно и то, что у Пруста выступает как образ, не всегда явно выражаемый, но какой-то золотой тайной нитью пронизывающий все строение, все движение прустовского опыта, – образ соединения или воссоединения с самим собой. Воссоединение с самим собой. Значит, то, что было подлинным впечатлением, уходит по кривой, и исправление кривой есть воссоединение с самим собой в том смысле, что ты воссоединяешься с тем, что было в тебе. И только на себе ты можешь эту кривую исправить. Вы помните слова Гумилева: «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!» Как раз то нечто, ушедшее по кривой, было создано для этого. Две разорванные половины одного и того же – они должны воссоединиться. В древности символ понимали так: символ есть дощечка узнавания, дощечка, разломанная пополам. Одна половина – у вас, а вторая половина – у меня. Прошли годы, а может быть, столетия, мы с вами встретились, и встретились мы с вами в той мере, в какой мы вдруг увидели, что ваша половина дощечки по излому прилегает к моей половине. Одно принадлежало другому, извечно было создано друг для друга. Так извечно созданы друг для друга два края, которые Пруст называет так: один край называется Раем, и всегда – потерянным Раем, а второе – то, что ушло по кривой. И оно должно воссоединиться с первым, потому что там как раз вторая половинка этого. Этот же символ в философии выступает как символ Эроса, который строится в предположении, что в принципе человеческое существо едино, оно как бы андрогинно по своей природе, но разделено. Будучи извечно предназначено для единства, оно разделено. Разделено тем, как устроен мир и т д., разделено событиями. Разделено на мужскую половину и на женскую половину. А любовь есть их воссоединение или стремление к воссоединению. То есть жизнь этих существ есть как бы состояние, запущенное на кривую воссоединения с самим собой. У нас все явления ведь даны плюсно и минусно. Для каждого плюсового явления есть его минусовая копия. Ну, так же как, скажем, есть истина, а есть похожая на нее ложь, неотличимая. Есть что-то, что существует в слове, и только в слове, а есть что-то, что существует и пользуется этим словом. И в слове между тем и другим нет различия. Есть для всего истинного, переживаемого нами, испытываемого, вербальная копия этого же самого. Там может стоять знак минус, а здесь можно ставить знак плюс. (Мы же математикой занимаемся. Поэтому для Пруста я и предлагаю термин… так же, как существует матезис математика – а в области Пруста мы имеем дело с пафосами, – и если в математике есть неделимые единицы, то в пафосах тоже есть свойство неделимости. И значит, когда я прибегаю к философским терминам, чтобы понять художественный опыт, – Пруст не прибегал к философствованию и к философским терминам, такое изучение можно назвать пате-матикой. От слова pathos, пафос. Это патематика, конечно.) Говоря об отрицательной стороне этого дела, Пруст прослеживал множество смертей. Множество смертей он считал оборотной стороной того, что на положительной стороне выступает как объединение частей, извечно созданных друг для друга. И вот, беря тот исторический объем, о котором я говорил, мы узнаем следующее: в этом историческом объеме закреплен – одевшись разными коконами: коконами лиц, коконами вещей, событий, дат, временных, коконами пространственных мест, – кокон реально случившегося. Это же реально случившееся дано в коконе калорифера, который – уже совсем в другом месте – ворчит и фыркает в Париже. Или: нечто данное в коконе впечатления плит площади св. Марка в Венеции имеет еще один кокон – плиты двора Германтов. И весь этот объем есть, конечно, продукт того, что я называл трудом жизни. Труд жизни туда ушел. Труд забот о том, что я называл высшим. Забот о высшем. Внутри какого-то впечатления мы задавались не просто вопросом о самом материальном содержании впечатления, а мы задавались фактически вопросом о своем собственном существовании, о своем собственном бытии, о своей собственной душе. Потому что – я снова повторяю тот пример, который приводил, – та тревога и вопрос, который есть у мальчика, решающего впервые для себя некоторые вопросы половой жизни, это не есть та тревога на которую получен потом ответ в реальной жизни, где выясняется разница между полами, механизм и структура полового желания, выясняется механизм рождения детей, – то, что он там узнает, не будет ответом на то, что беспокоило его. У него было бытийное беспокойство, другого рода беспокойство. Так же, как, – скажем, если маркиз Сен-Лу узнает, что Рахиль проститутка, это знание не будет ответом на тот вопрос, который его беспокоил, – вопрос о прекрасном мире, из-за которого он Рахиль и полюбил. И узнать, что она недостойна этой любви, не есть ответ на вопрос, что же с ним происходило, когда он полюбил Рахиль. Это не есть ответ на поиск души. Там происходило что-то другое и – понималось или не понималось. А понимание – ответом на него не являются последующие знания. Понимание (или непонимание) данного момента, не имея своим ответом последующее знание, не только теперешнее, но и последующее, продуктивно. Оно не ждет знаний, которые придут на место пустот, перед лицом которых оказалось понимание (или непонимание), – понимание само производит что-то. Я называл это трудом жизни.
Значит, сказав труд жизни, мы фактически тайно вносим или формулируем скрытое предположение, что внутри труда жизни, внутри впечатлений, внутри того, что сразу же или очень быстро уходит в тысячи миров, разобщенных между собой, – в этом что-то есть, что-то длится. Есть какая-то непрерывность. Ведь, смотрите, я говорю: труд жизни – и, когда я это говорю, я явно имею в виду какое-то неделимое движение, имеющее непрерывность, по отношению к которому все способы разрешения, практического или изживающего, есть то, что англичане называют act out. Психологи, наверно, знают, что это такое – разыгрывать вовне. Вынести вовне в проигрыше. Все практические разрешения есть прерванность движения по отношению к чему-то неделимому. Я поясню простым примером: я говорил вам, что в страдании, связанном со смертью любимого существа, происходит какое-то движение, внутри непрерывности которого нельзя поместить знание о том, что страдать бессмысленно, потому что того, что было, не сделаешь небывшим, или – того, что было, не вернешь. Или – что можно любить и другого. Точно так же – если у тебя убили друга в Афганистане, то структура философского и поэтического сознания – а мы знаем, что из философского и поэтического сознания только и складывается структура действительной человечности, – полностью исключает то, что можно тут же, сразу призывать к мести. То есть разрешать чувство горя практическим действием. Само практическое действие выступает как прерванное движение по отношению к тому, что должно было быть непрерывным движением. В непрерывном движении проясняется смысл. Вот, скажем, когда Маяковский кричит, что Войкова убили – или кого-то еще, я не помню точно фамилий, – и что мы за это десять белых убьем, то он произносит нечто невозможное в структуре поэтического сознания и в структуре человеческой души. Не дело поэта призывать к убийству – не по гуманитарным запретам, хотя и по ним тоже, конечно, – а потому что его дело прояснить, узнать, что происходит. И поэт по определению видит сразу с двух сторон. Поэтому он видит и то, что парень в Афганистане был загнан в угол, оказался там и трагично погиб, и видит того, кто в него стрелял, и он должен быть способным в состоянии горя, если этот парень его друг, состояние горя держать, а не разрешать. А что значит «держать»? Оставаться внутри неделимого, непрерывного движения, лишь в конце которого может кристаллизоваться реальный смысл того, что происходит. Реальность нашей судьбы. Ведь стоит поддаться разрешающим движениям, то есть делящим движениям, – а мы пока все время у Пруста имеем дело с делящимся миром, который дробит чувства, прерывает непрерывность неделимых движений и т д. – стоит поддаться, как разрушается душа. Пожалуйста, мы будем в афганской деревне стрелять и убивать детей, женщин и будем делать это в ослепительной ясности правоты. Вот с чем мы в действительности имеем дело. И эта ситуация – я беру ее в предельном виде – похожа и на обыденную ситуацию. Ведь я могу вам доказать, что вообще в истории не было сделано зла без абсолютно ясного сознания делаемого добра. Зло всегда делается для добра, так же как и лгут для истины. Все пафосы содержат истинный исходный пункт. И когда говорят, что страсти ослепляют, то не замечают, что в этой фразе всегда есть следующее: ослепительным для нас является ясность правоты страсти. Только этим можно ослепляться. Человек очень сложное создание, и в более простых случаях он не ослепился бы. А ослепляется – ясная правота страсти. Пруст в одном месте замечает (все, что я говорил сейчас, – вариации, не прустовский текст), в связи с садизмом и мазохизмом, что, собственно говоря, мы обычно завидуем иногда садисту, ценности, так сказать, его наслаждения мучениями другого. Но в действительности у садиста вовсе нет этой ценности радости, потому что садист в лице другого, который позволяет себя мучить, в действительности всегда наказывает зло [391]. А наказание зла не такая уж радость. И поэтому нечего садистам приписывать какую-то единую незамутненную радость мучения другого.
390
См.: T.R. – p. 889
391
См.: C.G. – p. 174; Sw. – p. 164.