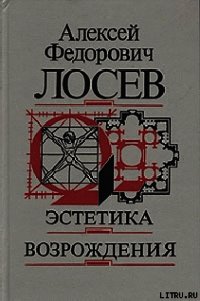Вл. Соловьев - Лосев Алексей Федорович (книги без регистрации бесплатно полностью .TXT) 📗
Самым глубоким и для нас самым неожиданным является у Розанова сближение Вл. Соловьева, правда временное, с теми, кого принято называть шестидесятниками. Если вдуматься в это сопоставление Вл. Соловьева с шестидесятниками, то действительно начинает бросаться в глаза общее для него и для них свободомыслие, презрение ко всякого рода обывательщине, хотя бы даже и церковной, а также вера в какие-то небывалые синтезы жизни, несмотря на их неопределенность, даже какую-то туманность, несмотря даже на их какой-то анархический размах и несмотря на их без всякой мыслительной точности всемирно-историческое духовное освобождение. Правда, конец века ознаменовался отходом русского передового общества от столь неудержимых порывов к духовному освобождению и переходом к плаксивой и сумеречной обыденщине. Сильный и волевой Вл. Соловьев не мог с этим примириться и глубоко страдал от невозможности так же свободно мыслить, как это было в более ранней русской общественности. И это было для него новой трагедией. Но на этот раз история уже не позволила ему выбраться из мучительных пут этой трагедии. Он всегда мыслил себя на передовых позициях, всегда был застрельщиком, всегда был каким-то внутренним и духовным революционером, что часто и приводило к опрометчивости, к философским неудачам и в конце концов к упованию на преображение мира после окончательной мировой или даже космической катастрофы. Об этой катастрофе Розанов не говорит, но о крушении идеально-человеческих исканий у Вл. Соловьева он говорит, и притом говорит красноречиво.
«В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна „шестидесятых годов“, и нельзя сомневаться, что, хотя в „Кризисе западной философии“ и выступил он „против позитивизма“, т. е. против них, он их, однако, горячо любил и уважал, любил именно как „родное“, „свое“…
Он начал писать в семидесятых годах. И с людьми 80—90-х годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное поколение было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ним связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как-то он мне сказал о себе, что он — „не психолог“. Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрельщиком. Многое начал, но почти во всем или не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его „концы“, то были высоко даровиты и нужны для отечества и славны для его имени выезды, „начатки“, первые шаги…» (там же, 241–242)
В результате приведения нами обширных цитат из Розанова о Вл. Соловьеве необходимо сказать, что, кроме Розанова, вообще мало кто говорил о Вл. Соловьеве так метко и так проникновенно. Постоянная бездомность и неустроенность жизни и деятельности Вл. Соловьева; его русская душа, всегда грезящая о всемирно-историческом духовном и материальном освобождении; его русское сердце, всегда ищущее уюта и никогда его не находящее; невозможность и недоступность такого рода идеалов, постоянно заставлявшие переходить от профессуры к литераторству и публицистике, а в журналистике от талантливых литературно-критических анализов к прямому космическому утопизму; его постоянная жажда общественно-политической свободы, заставившая его перейти к трагическому одиночеству как среди либеральной, так и среди консервативной русской общественности, — все это подмечено и сформулировано Розановым настолько же ясно и просто, насколько и гениально.
И так как статьи Розанова о Вл. Соловьеве всеми давно забыты и их найти трудно даже в столичных центральных библиотеках, то мы сочли необходимым привести все предыдущие цитаты, поскольку этот бывший ругатель Вл. Соловьева высказал также о нем глубокие мысли, которые вообще едва ли приходили кому-нибудь в голову.
Другую весьма ценную характеристику личности Вл. Соловьева в целом мы находим у Л. М. Лопатина. Последний тоже выдвигает на первый план противоречивость натуры Вл. Соловьева. Но и он находит эту противоречивость и в мысли и в жизни Вл. Соловьева обоснованной и для Вл. Соловьева вполне естественной. Л. М. Лопатин пишет: «Глубокая религиозность с раннего детства и через всю жизнь, за исключением краткого перерыва в годы юности, и — полное свободомыслие. Напряженная сосредоточенность мощного и замечательно оригинального философского ума на самых трудных и возвышенных проблемах жизни и знания и — чрезвычайная общительность, делавшая его незаменимым собеседником, отзывчивым товарищем, задушевным и любящим другом. Редкая самобытность мысли, с ранних лет заставлявшая его на все смотреть по-своему, и — удивительно развитая способность усвоять и проникаться чужими взглядами, лежавшая в основании его громадной начитанности в самых разнообразных областях, которая давалась ему как будто сама собой, без всяких особых усилий с его стороны. По существу аскетический и печальный взгляд на условия чувственного, земного существования, соединенный с очень серьезной, искренней и строгой постановкой идеала душевной чистоты, и — ясная жизнерадостность, страстная пылкость темперамента, способность к беззаветным сердечным увлечениям, которая нередко проносилась опустошающими бурями в его потрясенном духе. Мистическое прозрение в глубочайший смысл жизни, скорбное сознание ее внутреннего трагизма и — неиссякаемый юмор, светлая веселость, детски заразительный хохот, которого не забудет никто из знавших Соловьева лично. Изумительная терпимость к чужим мнениям, позволявшая ему близко сходиться с людьми совсем другого умственного и духовного склада, чем он сам, — и горячий задор в спорах даже о незначительных предметах. Беспечность, доходящая до безалаберности в устройстве своих личных дел, и — трогательная заботливость о чужих делах, не только готовность, но и тонкое практическое умение помочь в чужой нужде. И много можно было бы привести еще таких же пар противоположностей, и все они так гармонически уживались в своеобразном единстве личности Соловьева, что его никак нельзя вообразить без них. И на всем этом лежала такая прочная и неистребимая печать внутреннего благородства, высшего аристократизма души, что он органически был неспособен подчинять свою волю каким-нибудь пошлым и низким побуждениям. Высокий строй духа был прирожден ему, и оттого в нем не поколебали его никакие житейские испытания и никакие перемены судьбы, и он донес его до могилы. Таков был Соловьев как человек» (24, 625–627).
В дальнейшем Л. М. Лопатин говорит о единстве и целостности исканий Вл. Соловьева, наличных у него наряду с глубиной и цельностью его натуры. «В вопросах исторических, церковных, общественных он часто колебался, быть может, заблуждался и обманывался. Допустим все это — ведь нет в самом деле на свете непогрешимых людей. Но он был честный, пламенный, неутомимый искатель правды на земле, и он верил, что она сойдет на землю» (там же, 636).
Весьма ценную и глубокую характеристику Вл. Соловьева мы находим у Е. Н. Трубецкого. Этот автор справедливейшим образом выдвигает на первый план в личности и воззрениях Вл. Соловьева универсализм, всегда мешавший ему останавливаться на чем-нибудь одностороннем или условном. «Тот широкий универсализм, — пишет Е. Н. Трубецкой, — который мы находим у высших представителей философского и поэтического гения, был ему присущ в высшей мере; именно благодаря этому свойству он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного» (43, 7, 25). В этом смысле Вл. Соловьев, по мнению Е. Н. Трубецкого, никогда не был ни западником, ни славянофилом, ни либералом, ни консерватором, ни социалистом, ни индивидуалистом, ни приверженцем каких-либо односторонностей идеализма или материализма. «Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью» (там же, 27). «Он — верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в Исламе, но и во всевозможных языческих религиях востока и запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических» (там же, 27–28).