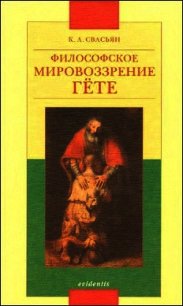Ницше или Как становятся Богом (Две вариации на одну судьбу) - Свасьян Карен Араевич (электронные книги бесплатно TXT) 📗
“Я достаточно силён для того, чтобы расколоть историю человечества на два куска” (Письмо к А. Стриндбергу от 7 декабря 1888 г.) [26]. Последний симптом: внезапная демаскировка Я, переутомлённого масками и требующего наконец прямой собственной речи, — невыносимое fortissimo самозванств, настоящее насилие над Евтерпой: я ученик философа Диониса; я северный ветер для спелых плодов; я всегда выше случая; я так умён; я пишу такие хорошие книги; я впервые открыл трагическое; я первый имморалист; я изобретатель дифирамба; я слишком новый, слишком богатый, слишком страстный; я обещаю трагический век; я хожу среди людей, как среди обломков будущего; у меня впервые в руках масштаб для истин; я впервые могу решать; только с меня начинаются снова надежды; я знаю свой жребий; моя истина ужасна; я первый открыл истину; я тот, кому приносят клятвы; я всемирно-историческое чудовище; я анти-осёл; я рок; я не человек, я динамит, — и уже почти машинально модулируя в тональность “паралича” и “комбинированного психоза” —среда индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом; Александр и Цезарь — мои инкарнации, также и поэт Шекспира — лорд Бэкон; я был напоследок ещё и Вольтером и Наполеоном, возможно, и Рихардом Вагнером… Я к тому же висел на кресте; я Прадо; я также отец Прадо; рискну сказать, что я также Лессепс… и Шамбиж; я каждое имя в истории… [27]Это — настоящее заговаривание лабиринта, исступлённый шедевр чисто эгографического экзорцизма, как бы бессознательно испещряющего стены лабиринта (уже усыпальницы) магическими речениями “Книги Мёртвых”, — последний подвох самосознания, отданного на заклание темпу: “Мой девиз: у меня нет времени для себя — вперёд!”
Тут только и забрезжил выход из лабиринта, и выходом этим оказалась…Голгофа.“Другу Георгу! После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня: трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. Подпись: Распятый (Der Gekreuzigte)” (Письмо к Г. Брандесу от 4 января 1889 г., Br., 8, 573). Или ещё: “Моему маэстро Пьетро. Спой мне новую песнь: мир просветлён, и небеса ликуют. Подпись: Распятый” (Письмо к П. Гасту от 4 января 1889 г., Br., 8, 575). Не будем соблазняться: Распятый могло бы означать здесь — распятыйразбойник(“Прадо”): в сущности, прикинувшийся разбойником музыкант, посягнувший решительно на всё абсолютное, кроме собственного абсолютного слуха, и смогший, вопреки себе, расслышать Голос, к которому остались благополучно глухи века традиционной морали и профессорской философии.
4. Посмертные судьбы
“В неописуемой странности и рискованности моих мыслей лежит причина того, что лишь по истечении долгого срока — и наверняка не ранее 1901 года — мысли эти начнут доходить вообще до ушей” (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 12 мая 1887 г., Br., 8, 70). Удивительно, что этому одинокому “охотнику до загадок”, испившему до дна чашу непризнанности и вынужденному, несмотря на крайнюю бедственность, печатать за свой счёт жалкие тиражи собственных сочинений, так и не пришлось хоть однажды усомниться в aere perennius каждой написанной им строки.
Пророчество оказалось необыкновенно точным: столетие открывалось оглушительным взрывом ницшемании, словно бы те на последнем дыхании выкрикнутые слова: “я не человек, я динамит” — были не эйфорическим саморазоблачением с-ума-сходящего, а самой действительностью, к тому же весьма скромно засвидетельствованной, — какой ещё динамит, когда говорить следовало бы о несуществующем ядерном арсенале! Злая насмешка судьбы: самому аристократичному из мыслителей, индивидуалисту, поддерживающему свою жизнь строжайшей диетой одиночества и презирающему даже театр, в котором “господствует сосед” (KSA 6, 420), довелось посмертно побить наиболее внушительные рекорды по части массового эффекта и стать едва ли не самым всеядным властителем дум начинающегося столетия.
Стоит ли и говорить о том, каким невыносимым диссонансом въелась эта всеядность в весь строй ницшевского менталитета; извращение и порча смыслов определялись здесь не столько качеством разночтения, сколько чисто количественным фактором его, — генезис европейского (и после уже и мирового) ницшеанства выглядит скорее всего прискорбной шумихой вокруг некоего аукциона, торгующего духовными “мощами” покойного философа и при активном участии самой разношёрстной публики: от университетских профессоров до бойких газетчиков, от новаторов стиля и мировоззрения до начитанных сплетников и сплетниц, от длинноволосой богемы кружков и журфиксов до горьковских босяков. “Стань тем, кто ты есть” — какой чудовищной пародией обернулось это тайное взыскание одинокого скитальца в ближайшей инсценировке его посмертных судеб, разыгрывающих как раз обратную картину, словно бы именно ему, гению всяческих провокаций и почётному гражданину Лабиринта, суждено было накликать на себя эту безвкусную и во всех смыслах жалкую провокацию распоясавшегося ницшеанства и многолично стать тем именно, чем он никогда не был, да и не мог ни при каких обстоятельствах быть.
В таком горько карикатурном исполнении сбывался подзаголовок, поставленный им к книге о Заратустре: “Книга для всех и ни для кого”, — сбывалась, точнее сказать, одна лишь первая часть его — “для всех” — при кричащем и разрушительном отсутствии “ни для кого”, только и способном уравновесить и осмыслить невыносимую эмпирику буквально понятых “всех”. “Книга для всех” за вычетом “никого” — трудно, пожалуй, сыскать более ёмкую и точную формулу, смогшую бы вместить весь печальной памяти феномен ницшеанства, или Сочинений Ницше за вычетом самого Ницше, и это значит: слов за вычетом музыки, музыки за вычетом страсти, страсти за вычетом страждущего, короче, только слов, мёртвых слов, которым он подобрал непереводимый, гольбейновской силы гравюрный штрих: “Ein klapperdures Kling-Kling-Kling” — что-то вроде бряцающего костьми скелета.
Скелет оказался на редкость популярным и общедоступным; можно было бы разложить его в однозначном ряде аксиом, одинаково звучащих для уха какого-нибудь изнеженного декадента и какого-нибудь бравого унтер-офицера: сильные должны повелевать, слабые — подчиняться, и ещё: жизнь есть воля к власти, и ещё: мораль есть мораль слабых, мстящих таким образом жизни полнейшей дискредитацией её естественных прав, или еще: нет ничего истинного, всё позволено. Ницше, подменённый “цитатником Ницше”, врывался в новое столетие лязгом и бряцанием таких вот цитатных костей, невыносимой барабанной дробью, возвещающей Пришествие Варвара, той самой “белокурой бестии”, от которой, как от контрастной довески к стилю бидермейер, вдруг восторженно обомлели сидящие на викторианской диете культурные обыватели Европы.
Больше того, не без комедийных попыток самоидентификации с названной “бестией” — ситуация, метко запечатлённая Рикардой Хух в словах: “Многие прикидывались белокурыми бестиями, хотя бестиальности в них не хватало и на одну морскую свинку”. Механизм канонизации срабатывал с почти автоматической безупречностью, так что совсем ещё недавнему идолоборцу, обогатившему инвентарь философских аргументов невероятным вполне “аргументом от молотка”, довелось занять едва ли не самое почётное место в идолатриуме эпохи; дело шло об усвоении простейшего алгоритма, или конвейерной фабрикации образцовых ницшеанцев, стало быть, о голой технике разведения, и, пожалуй, ни в чём не сказалась провокация столь ярким образом, как в этой издевательской диалектике, позволяющей какому угодно интеллектуальному и богемному проходимцу с минимумом средств рассчитывать на ассимиляцию максимума; так приблизительно и становились тем, чем сам он, повторим это, не был никогда: ницшеанцами, оргиастами, выскочками страсти, плагиаторами чужого умоисступления, шумными самозванцами невыстраданной тишины, высокомерными дублёрами незнаемых болей и восторгов, “сверхчеловеками” (в сущности, лишь “сверхгомункулами”), о которых он, словно бы предвидя их, обронил вещее слово, что они — “дурно пахнут” (KSA 4, 369).