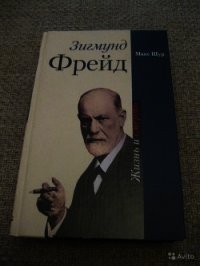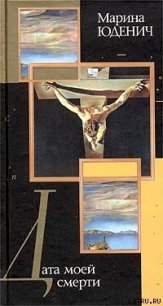Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа - Шопенгауэр Артур (читать книги без txt) 📗
Хотя все подобные соображения, несомненно, и могут пробудить в нас сознание, что в нас есть нечто, для смерти неразрушимое, но реально это сознание зародится у нас лишь в том случае, если мы поднимемся на такую точку зрения, с которой рождение не является началом нашего бытия. А уж отсюда следует, что то начало в нас, которое представляется неразрушимым для смерти, это, собственно, не индивидуум, – тем более, что последний, возникший путем рождения и нося в себе свойства отца и матери, служит только одним из представителей своего вида и, в качестве такого, может быть лишь конечным. Как, соответственно этому, индивидуум не имеет воспоминаний о своей жизни до своего рождения, так после смерти не может он иметь воспоминаний о своей теперешней жизни. Но всякий полагает свое я в сознании, и оттого оно, это я, представляется нам связанным с индивидуальностью, вместе с которой, бесспорно, погибает все то, что свойственно данному личному я и что отличает его от других. И оттого продолжение нашей жизни без индивидуальности ничем не отличается в наших глазах от продолжения жизни остальных существ, – и мы видим, как гибнет наше я. Но кто таким образом приводит свое бытие в связь с тождеством сознания и поэтому требует для последнего бесконечной посмертной жизни, должен бы сообразить, что, во всяком случае, он может купить ее только ценою столь же бесконечной прошлой жизни до рождения. В самом деле: так как он не имеет никаких воспоминаний о жизни до рождения и его сознание начинается, следовательно, вместе с рождением, то последнее и должно ему казаться возникновением его бытия из ничего. Но это значит, что бесконечное время своего посмертного бытия он покупает ценою столь же бесконечного бытия до рождения, – а в таком случае счета сводятся для него без прибылей. Если же то существование, которого смерть не трогает, – иное, чем существование индивидуального сознания, то оно должно так же не зависеть и от рождения, как не зависит оно от смерти, и поэтому одинаково верны должны быть относительно него два выражения: «я всегда буду» и «я всегда был», – а это дает в результате вместо двух бесконечностей одну. Но, собственно, в термине «я» заключается величайшее недоразумение, как это без дельных слов поймет всякий, кто припомнит содержание нашей второй книги и проведенное там различие между водящим и понимающим слово я; я могу сказать: «смерть – мой полный конец», или же так: «Какую бесконечно малую часть мира я составляю, такой же малой частью моего истинного существа служит это мое личное явление». Ноя – темная точка сознания, подобно тому как на сетчатке слепа именно та точка, куда входит зрительный нерв, подобно тому как самый мозг совершенно нечувствителен, тело солнца темно и глаз видит все, – только не себя. Наша познавательная способность целиком направлена во вне, соответственно тому, что она является продуктом такой мозговой функции, которая возникла в интересах простого самосохранения, т. е. для того, чтобы находить пищу и ловить добычу. Оттого всякий и знает о себе лишь как об этом индивидууме, каким он представляется во внешнем восприятии. А если бы он мог сознать, что он такое еще сверх того и кроме того, то он охотно отпустил бы свою индивидуальность на все четыре стороны, посмеялся бы над своей цепкой привязанностью к ней и сказал бы: «к чему горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе возможность бесчисленных индивидуальностей?» Он увидел бы, что хотя ему.и не предстоит продолжения его индивидуальности, но это все равно, как если бы оно предстояло, ибо он носит в себе его полное возмещение. Кроме того, надо принять в соображение еще и следующее: индивидуальность большинства людей так жалка и ничтожна, что они поистине ничего в ней не теряют, и то, что может еще иметь у них некоторую ценность, носит характер общечеловеческий, – а последнему неразрушимость вполне обеспечена. Да уже одна оцепенелая неизменность и роковая ограниченность всякой индивидуальности, как таковой, в случае ее бесконечного существования, наверное, своею монотонностью породила бы в конце концов такое пресыщение ею, что люди охотно согласились бы превратиться в ничто, лишь бы только избавиться от нее. Требовать бессмертия индивидуальности, это, собственно говоря, все равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки. Ибо, в существе дела, индивидуальность – это своего рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть и отрешение от чего является настоящей целью жизни. Это находит свое подтверждение и в том, что большинство людей, даже, собственно говоря, все люди, так созданы, что они не могли бы быть счастливы, в какой бы мир они ни попали. Если бы какой-нибудь мир освобождал их от нужды и скорбей, то они в такой же мере обречены были бы на скуку; а если бы он устранял от них скуку, то они в такой же мере подпали бы нужде, скорби и страданиям.
Таким образом, для счастия человека вовсе недостаточно, чтобы его переселили в «лучший мир», нет, для этого необходимо еще, чтобы произошла коренная перемена и в нем самом, чтобы он перестал быть тем, что он есть, и сделался тем, что он не есть. А для этого он, прежде всего, должен перестать быть тем, что он есть: этому требованию предварительно удовлетворяет смерть, моральная необходимость которой выясняется уже и с этой точки зрения. Перейти в другой мир и переменить все свое существо – это, в действительности, одно и то же. На этом, в конечном счете, зиждется и та зависимость объективного от субъективного, которую разъясняет идеалистический принцип нашей первой книги: именно здесь поэтому и лежит точка соприкосновения между трансцендентальной философией и этикой. Если принять это во внимание, то мы поймем, что пробуждение от сна жизни возможно только потому, что вместе с ним разрывается и вся его основная ткань, – а последней служит самый орган его, интеллект со своими формами: если бы интеллект оставался цел и невредим, то ткань сновидения продолжала бы развиваться до бесконечности, – так прочно сросся он с нею. То же, что собственно грезилось интеллекту, все-таки еще отлично от него, и только оно останется. Бояться же, что со смертью погибает все, – это похоже на то, как если бы кто-нибудь думал во сне, что существуют одни только сонные грезы без грезящего человека. – Но если в смерти чье-нибудь индивидуальное сознание находит себе конец, то стоит ли желать, чтобы оно опять возгорелось и продолжало существовать до бесконечности? Ведь его содержание, в большей своей части, а обыкновенно и сплошь представляет собою не что иное, как поток мелочных, земных, жалких мыслей и бесконечных забот, – дайте же и им, наконец, успокоиться! С глубоким смыслом писали древние на своих гробницах: «ночной безмятежности» или «благого покоя». Требовать же, как это часто делают, бессмертия индивидуального сознания для того, чтобы связать с ним потустороннюю награду или кару, – это значит только рассчитывать на соединимость добродетели и эгоизма. Но эгоизм и добродетель никогда не подадут друг другу руки: они составляют полную противоположность. Зато глубокую основу имеет под собою непосредственное убеждение, какое рождается у нас при созерцании благородных подвигов, – убеждение, что никогда не иссякнет и не обратится в ничто тот дух любви, который побуждает одного щадить своих врагов, другого – с опасностью для жизни заступаться за человека, никогда раньше не виданного.
Самый серьезный ответ на вопрос о загробном существовании индивидуума дается в великом учении Канта об Реальности. времени. Именно в данном пункте это учение особенно важно и плодотворно, потому что своими, хотя и вполне теоретическими, но глубоко обоснованными взглядами, оно заменяет положения, которые и на том, и на другом пути вели к абсурду, и сразу устраняет самый волнующий из всех метафизических вопросов. Начало, конец, продолжение – это все такие понятия, которые заимствуют свой смысл единственно от времени и получают значение только при условии последнего. А время между тем не имеет абсолютного бытия, не есть способ и склад внутреннего существования вещей, а представляет собою только ту форму, в которой мы познаем наше и всех вещей бытие и существо; отсюда следует, что это познание весьма несовершенно и ограничено одними явлениями. Таким образом, только к последним находят себе применение понятия прекращения и продолжения, – а не к тому, что в них, этих явлениях, нам представляется, т. е. не ко внутренней сущности вещей, в применении к которой эти понятия, следовательно, больше не имеют смысла. Это видно уже из того, что на вопрос о загробной жизни индивидуума, – вопрос, который вытекает из названных понятий временного характера, – не может быть дано никакого ответа, и каждое решение его в ту или другую сторону открыто серьезным возражениям. В самом деле: можно утверждать, что наше внутреннее существо продолжается после смерти, так как немыслимо, чтобы оно погибало; но можно утверждать и то, что наше внутреннее существо погибает, так как немыслимо, чтобы оно продолжалось: в сущности, одинаково верно и то, и другое. Здесь можно бы таким образом построить нечто вроде антиномии, – но она опиралась бы на одни только отрицательные данные. В ней субъекту суждения мы приписывали бы два противоречиво-противоположные предиката, – но только потому, что вся категория последних к этому субъекту неприменима. Если же отказывать г ему в обоих предикатах не вместе, а порознь, то дело принимает такой вид, как будто бы этим утверждается предикат, противоречиво-противоположный тому, который в каждом данном случае за субъектом отрицают. Это объясняется тем, что здесь мы сравниваем несоизмеримые величины, поскольку данная проблема переносит нас в такую область, которая упраздняет время и все-таки употребляет временные определения: следовательно, приписывать субъекту эти определения или отказывать ему в них, – одинаково не-: верно. Другими словами: эта проблема трансцендентна. В этом смысле смерть остается тайной.