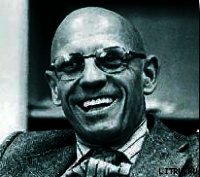Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - Фуко Мишель (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Итак, теперь историчность проникла в природу — или, точнее, в живой организм; причем здесь она представляет собою не только одну из возможных форм последовательности, но выступает и как основной способ бытия. Ясно, что в эпоху Кювье такой истории живого организма, какую позднее напишут эволюционисты, еще не существовало, однако живой организм уже мыслился здесь в непременном единстве с теми условиями, которые позволяли ему иметь историю. Подобным же образом в эпоху Рикардо богатства приобрели историческое измерение, хотя пока еще это открытие и не излагалось в виде экономической истории. Как будущая устойчивость промышленных доходов, народонаселения и ренты, предсказанная некогда Рикардо, так и постоянство видов, утверждаемое Кювье, вполне могли показаться при поверхностном рассмотрении отказом от истории; однако на самом деле и Рикардо и Кювье отвергали лишь признаваемую в XVIII веке возможность непрерывного временного ряда, лишь мысль о принадлежности времени иерархическому и классифицирующему порядку представлений. Ведь неподвижность, которую они описывали в настоящем или предсказывали в будущем, могла быть помыслена лишь на основе возможности истории, выступающей либо в виде условий существования живого организма, либо в виде условий производства стоимости. Как это ни парадоксально, но и «пессимизм» Рикардо и «фиксизм» Кювье могли появиться лишь на основе истории: ведь постоянство существ определяется на основе их новообретенного — на уровне глубинных возможностей — права иметь историю, и наоборот, мысль классики о том, что богатства могут самовозрастать непрерывно, а живые существа с течением времени превращаться друг в друга, определяла лишь такое движение, которое еще задолго до истории уже заранее подчинялось системе переменных, тождеств и эквивалентов. Именно эту историю и приходилось приостановить, взять в скобки — для того чтобы природные существа и продукты труда могли приобрести ту самую историчность, которая позволяет современному мышлению овладевать ими и строить далее дискурсивное знание об их последовательности. Для мысли XVIII века временные последовательности были лишь внешним признаком, лишь нечетким проявлением порядка вещей. Начиная с XIX века они выражают — с большей или меньшей прямотой, вплоть до разрывов, — собственный глубоко исторический способ бытия вещей и людей.
Это утверждение историчности в живой природе имело для европейской мысли не менее значительные последствия, чем внедрение истории в экономику. На поверхностном уровне мнимых великих ценностей, жизнь, отныне обреченная на историю, выступает в своем зверином обличье. Хотя к концу средних веков и, уж во всяком случае, к концу эпохи Возрождения зверь перестал представлять существенную опасность для человека, а его неискоренимая чуждость сгладилась, в XIX веке он: вновь становится источником вымысла. В промежутке между этими эпохами, во времена классики, господствующее место в природе занимали растения, открыто являвшие напоказ примету любого возможного порядка: растение во всем своем облике — от стебля и до зерна, от корня и до плода — было для мышления, ограниченного пространством таблицы, четким и прозрачным объектом, щедро выявляющим все свои тайны. Однако с того самого момента, когда признаки и структуры начинают все более погружаться в глубину жизни, устремляясь к ее постоянно ускользающему, бесконечно удаленному, но тем не менее властвующему средоточию, основным образом природы становится именно животное с его таинственным костяком, скрытыми органами и незримыми функциями, с той недоступной наблюдению внутренней силой, которая и поддерживает его жизнь. Если рассматривать живой организм как какой-то класс общего бытия, тогда, конечно, именно растения лучше всего выражают его прозрачную сущность; если же, однако, рассматривать живой организм как проявление жизни, тогда загадку ее лучше раскрывает животное. Оно не только образует некое устойчивое сочетание признаков, но, кроме того, выявляет непрерывно осуществляющийся в дыхании и пищеварении переход, от неорганического к органическому, равно как и обратное преобразование — смерть, превращающую большие функциональные структуры в безжизненный хаос частиц: «Мертвые вещества, — говорил Кювье, — входят в живые тела, занимают в них определенное место и действуют сообразно природе образованных ими сочетаний до тех пор, покуда не придет им срок выскользнуть из этих сочетаний, возвращаясь в подчинение законам неживой природы». [353] Растение господствовало на рубеже между движением и неподвижностью, между способностью или неспособностью к ощущению, тогда как существование животного держится на грани между жизнью и смертью. Смерть осаждает животное извне, она угрожает ему также и изнутри, поскольку ведь только живой организм может умереть, только жизнь позволяет смерти подкрадываться к живому. Ясно, что именно это и определяет ту двуединую значимость, которую обретают животные в конце XVIII века: именно животное является носителем той самой смерти, которой и сам он подчинен, именно в нем жизнь постоянно поглощает самое себя. Животное одновременно и включается в естество природы, и включает в себя нечто противоестественное. Перенося свою самую тайную сущность из растения в животное, жизнь покидает табличное пространство порядка и возвращается в дикое состояние. Жизнь «оказывается смертоносной в том же самом движении, которое обрекает ее на смерть. Она убивает потому, что она живет. Природа уже более не умеет быть доброй. О том, что жизнь неотделима от убийства, природа — от зла, а желания — от противоестественного, маркиз де Сад возвестил еще XVIII веку, который от этой вести онемел, и новому веку, который упорно хотел обречь на безмолвие самого де Сада. Да простят мне эту дерзость (да и для кого это дерзость?), но «120 дней» были дивной, бархатистой изнанкой «Лекций по сравнительной анатомии». Во всяком случае, в календаре нашей археологии де Сад и Кювье — современники.
Это положение животного, наделяемого в человеческом воображении тревожащими и таинственными силами, было глубоко связано с многообразными функциями жизни в мышлении XIX века. Здесь, по-видимому, впервые в западной культуре жизнь освобождается от общих законов бытия, как оно выявляется и анализируется в представлении. Жизнь становится основной силой, которая, выходя за рамки всех реальных и возможных вещей, одновременно и способствует их выявлению, и беспрестанно разрушает их неистовством смерти, противополагая себя бытию, как движение — неподвижности, время — пространству, скрытое желание — явному выражению. Жизнь лежит в основе всякого существования, а неживое, инертная природа является лишь ее мертвым осадком; просто-напросто бытие — это небытие жизни. Ибо жизнь — и именно поэтому она представляется мышлению XIX века основной ценностью — является одновременно основой и бытия, и небытия. Бытие существует лишь потому, что существует жизнь, и в ее основоположном движении, обрекающем их на смерть, рассеянные и лишь на мгновение устойчивые живые существа возникают, устанавливаются, удерживают жизнь — и в каком-то смысле ее убивают, — но в свою очередь уничтожаются ее неисчерпаемой силой. Таким образом, именно опыт жизни выступает как самый общий закон живых существ, выявляющий ту первоначальную силу, благодаря которой они существуют; этот опыт жизни функционирует как некая первозданная онтология, которая, по-видимому, старается выявить бытие и небытие всех существ в их нераздельности. Однако онтология эта обнаруживает вовсе не то, что лежит в основе всех этих существ, но скорее то, что облекает их на мгновение в столь хрупкую форму и тайно подрывает их изнутри, чтобы затем разрушить. Все живые существа являются лишь преходящими обликами жизни, а бытие, которое они сохраняют в течение краткого периода их существования, есть лишь их притязание, их желание жить. Таким образом, для познания бытие вещей есть иллюзия, покров, который необходимо разорвать, дабы обнаружить ту неистовую силу, безмолвную и незримую, которая во тьме поглощает их. Онтология уничтожения живых существ выступает, таким образом, как критика познания: но речь идет не столько о том, чтобы обосновать данное явление, выявить одновременно его предел и закон, связать его с конечностью бытия, обусловливающей его возможность, сколько о том, чтобы рассеять и разрушить его, как сама жизнь разрушает все живые существа; ибо все его бытие есть лишь видимость.