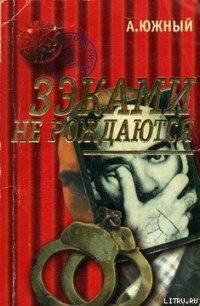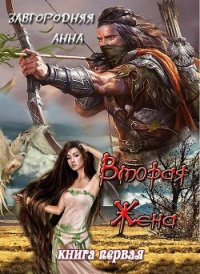Фабрика безумия - Сас Томас (книги TXT) 📗
Далее, поскольку магические способы проще, чем технические, неудивительно, что человек показал замечательную изобретательность в вытеснении материальных проблем на духовный уровень, а духовных проблем — на материальный уровень, обращаясь в каждом случае скорее институционально и церемониально, нежели инструментально и технически. Веками человек относил болезнь к грехам и пытался освободиться от болезни, заботясь о своем моральном поведении. Сегодня он относит грех к болезням и пытается освободиться от зла, заботясь о своем здоровье.
Когда церковь имела власть, ее почитали за данные ею через священников — ее лживых пророков — обещания вечной жизни на небесах. Когда она лишилась власти, ее стали бранить за сопротивление прогрессу медицины. Сегодня медицину почитают за данные ею через психиатров — ее лжепророков — обещания нравственного успокоения на земле. Когда она лишится власти, ее будут, как я подозреваю, бранить за сопротивление прогрессу морали. Но поскольку сопротивление прогрессу морали, когда оно имеет место, неизменно восхваляется в качестве самого прогресса морали, подлинное совершенство нашей духовности должно зависеть от действительного решения психологических и общественных проблем, на которые мы пока даже не решились взглянуть, не говоря уже о том, чтобы взяться за них. А до того времени нам следовало бы судить обо всех Великих Моральных Программах, особенно если их поддерживает власть Церкви или Государства, применяя с незначительными изменениями известное англо-американское судебное правило: они безнравственны до тех пор, пока не доказано обратное.
Глава 15.
Борьба за самоуважение
Половина всего вреда в этом мире причиняется людьми, желающими чувствовать свою важность. Они не хотят вредить — да вред им и не интересен. Они просто или не видят его, или оправдывают его тем, что они поглощены бесконечной борьбой за то, чтобы думать о себе хорошо.
Когда антагонистический подход становится нормой, зачастую не остается места для нейтральной позиции: участники социальных отношений должны рассматриваться как враги или как друзья, как агрессоры или как жертвы. Например, если мы описываем гомосексуалистов или душевнобольных как «отклоняющихся» или называем их больными, мы подразумеваем, что они делают что-то неправильное по отношению к кому-то, возможно — к самим себе. И наоборот, если мы описываем их как козла отпущения, то подразумеваем, что другие люди совершает что-то неправильное по отношению к ним.
Эту дилемму хорошо понимал Вольтер. Он описал ее с характерной иронией в своем «Философском словаре» под заглавием «Свобода мысли» в форме диалога между лордом Болдмайндом, английским генералом, и графой Медросо, испанским дворянином [886]. Я процитирую часть текста Вольтера:
«Болдмайнд: Итак, Вы — начальник караула у братьев доминиканцев? Мерзкое ремесло.
Медросо: Это верно, но лучше пусть я буду их слугой, чем их жертвой. Я предпочту несчастие сжечь своего соседа несчастию самому оказаться поджаренным» [887].
Затруднительное положение графа Медросо не перестало быть актуальным вместе с инквизицией. Напротив, слишком часто современный человек оказывается перед той же мучительной дилеммой. Выбрать ли ему господство только для того, чтобы самому избежать порабощения? Нет, восклицает Камю: «Даже тем, кто сыт моралью по горло, следовало бы понять, что лучше претерпеть определенные несправедливости, чем совершить их...» [888]
Традиционно сумасшедший считался опасным врагом общества, действительным или потенциальным агрессором. Соответственно общество и его полицейский — психиатр рассматривались как действительные или возможные жертвы. Это — решение графа Медросо для дилеммы «душевной болезни»: уничтожь индивида, признанного «пациентом», до того как он сможет уничтожить тебя. Для врача такой подход не менее постыден, чем для священника.
Если мы вынуждены выбирать между тем, чтобы сжигать других или быть сожженными (выбор, которого в состоянии избежать очень немногие из думающих людей и который особенно часто возникает в карьере психиатра), то я думаю, что вдохновляться следует решением Альбера Камю, а не графа Медросо. Однако часто возможно, а на самом деле и желательно избегать такого выбора, просто отвергая отношения господства—подчинения. Врач, избравший карьеру институционального психиатра, ставит себя, даже если поначалу он не осознает этого, в положение графа Медросо: он должен или сжигать — то есть, будучи агентом государства, наклеивать на невиновных ярлыки, стигматизирующие их как источник зла, или же поджарят его самого — то есть, став агентом преследуемого душевнобольного индивида, он рискует подвергнуться нападкам коллег, которые объя-рЯт его отклоняющимся, отпавшим от профессии, безответственным врачом или даже сумасшедшим. С другой стороны, психиатр, предпочитающий работать в качестве частного психотерапевта, как, например, поступают некоторые психоаналитики, может переступить через эту дилемму, избрав, подобно Аврааму Линкольну, отношения равенства и доброй воли. «Я не хочу быть рабом, но рабовладельцем я хочу быть еще меньше, — говорил Линкольн. — Так я представляю демократию. Все, что отступает от этой идеи настолько, что различие становится заметным, — уже не демократия» [889].
Именно потому, что я стараюсь следовать этому принципу, потому что я отвергаю как аморальные в своей основе все формы «терапевтического» обмана и принуждения, я классифицирую институционального психиатра как притеснителя, а принудительно госпитализированного психиатрического пациента — как жертву. Такой выбор легко защищать, не только воспользовавшись этическими аргументами и следуя уже обозначенным линиям рассуждения, но и опираясь на исторические и политические свидетельства.
История психиатрии, как я, надеюсь, убедительно продемонстрировал в этой книге, представляет собой в основном отчет о чередовании модных тенденций в теории и практике психиатрического насилия, составленный на самодовольном медицинском жаргоне [890]. В этом отношении она напоминает традиционную историю национализма и религиозных войн, которая изображает насилие безжалостных и рвущихся к власти вождей, прикрывающихся беззаветной борьбой во имя Бога или Нации. (На коммунистическом языке борьба ведется во имя рабочих или во имя угнетенных масс.) Таким образом, насилие, которого ждут от сумасшедшего, лучше всего Понимать как проекцию на жертву действительного насилия со стороны притеснителя. Агрессия общества в целом и его агента-врача в частности против так называемого сумасшедшего берет начало еще в XVII веке в темницах цепях, телесных пытках и лишении пищи, продолжается в XVIII и XIX веках в сумасшедших домах в побоях кнутом кровопускании и средствах физического усмирения («смирительных рубахах»), расцветая в XX веке в обширных государственных больницах (вмещающих до 15 ООО обитателей) в электрошоке, лейкотомии (отсечение скальпелем лобных долей от остального мозга) и средствах химического усмирения, именуемых «транквилизаторами». Подобно всем прочим систематическим, всенародно одобренным формам агрессии, психиатрическое насилие одобрено и принято влиятельными общественными институтами, санкционировано законом и традицией. Основные социальные институты, вовлеченные в теорию и практику психиатрического насилия, — государство, семья и медицинская профессия. Государство одобряет принудительное заключение под стражу «опасных» душевнобольных, семья одобряет его и извлекает выгоду из этого мероприятия, медицинская профессия в лице психиатрии осуществляет эту деятельность и находит для нее оправдания [891].