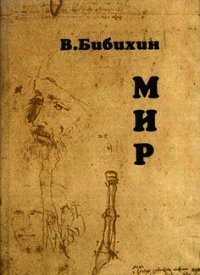Другое начало - Бибихин Владимир Вениаминович (книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Мы ничему не принадлежим так, как своему. Мы заняты своим делом, живем своим умом и знаем свое время. Свое определяет владение в другом смысле чем нотариально заверенное имущество. Мы с головой уходим в свое, поэтому не смогли бы дать о нем интервью и срываемся всегда на его частное понимание. Латинское выражение suo iure переводится «по своему праву» и слышится в значении правовой защиты личности, но первоначально значило «с полным правом, основательно» вне отношения к индивидуальному праву. Suum esse, букв. быть своим, значило «быть свободным». Русская свобода происходит от своего не в смысле собственности моей, а в смысле собственности меня. Собственно я, сам и свой, и есть та исходная собственность, минуя которую всякая другая будет недоразумением. Древнегреческое именование бытия, ουσία, сохраняло исходное значение собственности, имения. У позднего Хайдеггера событие как явление, озарение бытия указывает одним из значений на свое, собственное (Ereignis — eignen). От скользящей релятивности своего в смысле кому-то юридически принадлежащего мысль не может не возвращаться к основе собственно своего как настоящего, чем человек интимно захвачен без надежды объясниться, лишь ощущая тягу захвата. Свобода по сути не независимость, она привязана к тайне своего.
Собственно свое не непознаваемо. Но попытки вычислить, сформулировать уводят от него. Для человека-исследователя, покорителя земли и вселенной путь к собственно своему труднее чем изучение галактик, облеты планет или приобретение миллиардного состояния. Великий Гэтсби в романе Фитцджеральда приобрел собственность на любой взгляд громадную, не сделав шага к своему. Все собирается вокруг перепада (inter-esse) между своим и своим, собственным и собственным. Или снова в который раз всё мое просто потому что не твое, или наконец впервые оно собственно свое, захватывающее. Только кажется будто можно «поставить проблему собственности» и добиться ее решения. Даже для успеха такой сомнительной по своей ценности операции как лексическое определение собственности в академическом дискурсе нам придется сначала препарировать понятие, сознательно абстрагируясь от настоящего в собственном и от родного в своем. Собственность мы должны будем взять «в юридическом смысле», а смысл этого выражения опять же сначала фиксировать, чтобы он не ушел в песок. Предельным ориентиром в определении собственности окажется в конечном счете мир, как говорилось выше.
Мир как захватывающая цель всякого захвата с самого начала влечет чертами близкого, интимного, согласного. Мир принимается, как правило, с большей готовностью чем окружающие условия, коллектив, семья. Не случайно в истории слова мир родствен милому. Когда Розанов говорит о «центре мирового умиления», он слышит связь, которая только кажется прихотливой. Она на самом деле фундаментальна и прочнее любых лексических конструкций. Мир прежде всего свой, т.е. родной [215]. В захваченности миром свое-собственное-особое, влекущее выносит к роду и народу, к рождаемому в детях и в порождениях творчества. Свобода есть прежде всего захваченность своим, где свое надо понимать в связи с родом и народом. Мыслит себя в свободе не юридическая личность и не индивидуальное(физическое) я, а собственность в смысле захваченности миром. Широта пейзажа, в котором мы здесь оказываемся, не мешает, а наоборот способствует его вхождению, редко замечаемому, во всякое обсуждение собственности.
Свое постепенно вбирает в себя интимно близкое, мир, потом государство, наконец гражданское общество, семью, соседей. В мире свое совпадает с родовым (родным). Все эти величины втянуты в проблематику собственности. В этом смысле современные реформы в России представляют собой снова попытку на ощупь разобраться в мире, при том что его захват остается тайной причиной всех начинаний. Как уже замечалось, дело не в плохой продуманности политики, а в том что собственное свое никогда не может быть более ясно чем мир. Свое как питающая энергия не открыто сознанию. Отсюда жесткость, неинтеллектуальность борьбы за собственность. Собственное свое в нас же самих оказывается для нас неприступным. Знание себя удел богов (Платон). Если сейчас в нашей стране, где по всеобщему ощущению все похожее на собственность уже разобрано, до сих пор неизвестно, кто собственно что взял, то это неизвестность не секрета, как если бы новые властители затаились, а принципиальная невозможность знать, кто собственно и что по-настоящему взял. Так в 1918 году, когда всем стало ясно что почти вся собственность освобождена или наоборот захвачена, осталось неизвестно, что с ней собственно произошло. И если теперь вокруг собственности жутко и могут убить, то вовсе не потому что уверенный капиталист взял владение в свои руки и встал на его решительную защиту, а как раз наоборот, все спуталось, и разборки неизбежно наступают там, где упущен разбор.
В последнем горизонте свое собственное есть мир. Мы можем иметь его только как тему, вопрос [216]. На вопрос, кто собственно мы сами и где наше место, отвечает только наша способность думать о событии мира. Отрезвление от слепого захвата собственности неминуемо возвращает в школу софии, ее мудрой хватки. Никаких шансов встретить какое-то свое по сю сторону порога этой школы, в которую поступают на всю жизнь, ни у кого нет. Общество не встраивается как популяция в мировое окружение, выбирая в нем себе нишу; оно, как говорит наше слово мир в одном из своих значений, с самого начала берет на себя целое как проблему. О целом человек знает не больше чем о мире. Наука незнания, умение оставить мир в его покое требуются искусством жизни.
«Здоровая бессознательность… так же необходима для общества, как для телесного здоровья организма необходимо, чтобы мозг… не сознавал, как работают внутренние органы» [217].
Школа софии другое чем знание и сознание.
Неуловимость захватывающего оставляет ему только негативную определенность жесткого отталкивания. Последняя становится надежной базой для разнообразной критики. Тяготение к своему собственному не ведет плавным образом к ладу и обустройству. Самая жестокая война начинается между родными вокруг родного. Почему не удается слияние с миром для нас, изначально слитных с миром, принадлежащих биологической эволюции, это особая тема.
Последнее прояснение собственности повертывается к человеку лицом апокалипсиса. В христианском понимании откровение и последний суд открывают со стороны Бога суровую, но спасительную правду о человеке. Когда за дело апокалипсиса берется человек или коллектив, суровость суда как правило обеспечена, но до торжества правды процесс дойти по названным причинам не может. Мировая история в любом случае окажется всеобщим судом (Гегель), вся разница сводится к тому, окажется ли судящая инстанция способна видеть человека в его собственной сути. Для жестокости внутри коллектива, разбирающегося с собственностью, не требуется чтобы люди знали, у кого собственность и в чем она заключается; наоборот, достаточно того, чтобы в этом вопросе царила тревожная непроясненность.
Дает ли разбор, подобный нашему, возможность мягкого избежания вполне реального апокалипсиса, организованного самим человеком? можно ли в принципе успеть разобрать то, для чего иначе потребуется разборка? Мы этого знать не можем. Определить, чтó есть собственность в глубоком смысле своего, так или иначе дело свободы. Она отгорожена от нас тем, что мы называем странностью софии. Попытка понимания перемещает нас все в новые и новые пространства, освоиться в которых нелегко. Совершенно ясно одно: если с собственностью вообще имеет смысл иметь дело, то только на пути терпеливого осмысления своего, родного (родового) как добра (имущества и блага) и мира как интимно близкого.