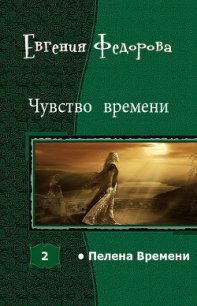Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Ведь вы поймите, что в такого рода радикальной работе, какой является прустовская, всегда речь идет об остром переживании и оставлении позади себя проблемы, которая описана, задана дантовским символом. Вспомните, кто даже в ад не попал? (То есть получил самое худшее из всех возможных наказаний.) Люди, которые ничего не сделали, – ни добра, ни зла. Люди, не имеющие истории. Помните – девушка идет вдоль вагона, в котором сидит наш путешественник Марсель, и продает молоко? Эта девушка переживается нашим Марселем как возможность полной жизни в чистом виде. Почему? Потому что он воспринимает девушку вне какой-либо связи с предшествующей своей жизнью, и перед лицом восприятия он сам – в полном составе своего существа. Вне каких-либо предрассудков, вне предзаданных представлений о том, что красиво, что некрасиво. Привилегированный детский момент – ребенок никак не задействован, его возможность восприятия не разделена на уже воспринятые и оцененные предметы, которые, чтобы воспринять новое, нужно было бы собрать и из них извлечь самого себя, высвободить свою способность восприятия из ее задействованности, и тогда оказаться свободным перед новым восприятием. И оно ведь тоже уложится в память, но только в том случае, если человеку потенциально было дано полное присутствие. (То есть он волновался, решал, переживал, радовался и страдал.) Тогда это может закрепиться, как в коконе, в материальной оболочке воспоминания и потом всплыть. Но представьте себе, что он не жил, – так ведь то, что не жило, не может ожить. Вот что я называю иметь историю. Иметь – мы имеем историю в том смысле, что мы приходим в движение. Мы двигаемся в мире. Но двигаемся (и так устроены законы нашей сознательной жизни) в мире, еще не успевая расшифровать, понять то, что с нами происходит. И поскольку мы не успеваем расшифровать и понять, постольку содержание нашего переживания или нашей мысли может слепиться с совершенно инородным ему предметом. А на место высвобожденного могут прийти штампы, стереотипы культуры, нашего рассудка, общих представлений. Но шанс, что когда-то в будущем вы сможете выскочить из предрассудков, заложен только там. Если вы пережили и если объекты похитили у вас содержание переживания, – похитили, потому что оно еще не было вами понято, проработано, – но все-таки оно было; а оно было только потому, что вы были озабочены своим существованием и были соотнесены с какими-то невидимыми и высокими для вас силами. Ведь для того, чтобы ребенок запомнил, с точки зрения психоанализа, любовную сцену, которую он не понимает, но которую видит, нужно, чтобы он думал, волновался, чтобы это было бы для него вопросом существования, на который у него ответа пока нет. И я хочу сказать, что такого рода работа есть формирование и образование очень странных материальных образований, представленных или являющихся нашими телами, похожими по своей структуре как раз на метафору. Или на метонимию (метафора – это связь разнородных объектов, а метонимия – это замещение и обозначение отсутствующего объекта каким-то совершенно другим предметом).
Я хочу сказать, что, когда мы движемся, мы отращиваем себе тело, которое потом очень часто описывается, – например, известно, что существует сексуальное отклонение, заключающееся в том, что если мужчине не пощекотать пятки, то он не может получить сексуального наслаждения. Я вам сейчас привожу не шокирующие примеры, а примеры того, о чем нужно думать, потому что даже за пяткой, так же, как за чашечкой цветка, можно и нужно увидеть законы, которые шире и значительнее этих пяток или чашечек. Дело в том, что пятка стала органом, телом возможной чувствительности и возможной реализации полового желания у данного человека. Наработанное им тело – такое же, как пирожное «мадлен», сохранившее в себе воспоминание о Комбре и содержащее в себе наши возможности взволноваться теми предметами, которые запечатаны в этом пирожном. Ведь я говорю не о пустых воспоминаниях, а об источниках наших волнений, нашего понимания или непонимания. Почему мы понимаем что-то, почему не понимаем? Почему видим, не видя? Смотрим – и не видим того, что перед нашими глазами. Ведь этого нельзя объяснить глупостью или, наоборот, умом данного человека. Нельзя описать случайно, здесь действуют какие-то законы. Точно так же человек, у которого ушли в пятки его волнения, его переживания, его мучительный запрос о своем собственном существовании и о смысле, – ведь бессмысленно что-нибудь видеть в том, что он обращается к пятке, а не к тому, к чему мы обычно обращаемся для того, чтобы удовлетворить свои желания, – видеть в этом какой-то злой умысел, исправимый тюрьмой или проповедью. И вот мир Пруста, совершенно независимо от этих крайних патологических случаев, которые я приводил просто в качестве иллюстрации, мир Пруста и мир человеческого сознания, описываемого Прустом, полон такого рода вещами, которые содержат нашу чувствительность, являются ее органами, или – телесными образованиями, которыми мы обросли. Они есть носители истории, всего пережитого нами; но я подчеркиваю слово «пережито» – переживается не само собой не то, что случается, а то, что мы пережили, то есть над чем мы работали, от чего мы не устранились, чтобы не сделать ни добра, ни зла, были нейтральны (если мы устранились, то мы даже в ад попасть не заслужили), и в чем и с чем мы пришли в движение. Приведу другую цитату Пруста, чтобы как-то бросить свет на проблему, которую я сейчас ввел. Во многих местах романа, которые, кстати, перекликаются между собой по законам симметрии, – симметрии или символические соответствия есть не только в нашей сознательной жизни, они есть еще и в самой композиции романа (разные части романа отсылают одна к другой), – в этих местах отсылки почти всегда фигурирует одно и то же слово для обозначения этих наращенных тел или наращенных вещей. Фактически то, что является материалом в романе Пруста, есть новая психология. В психологии Пруста мы обладаем не тем телом, которым якобы мы обладаем [358]. Живет в мире не это тело, а какое-то другое тело, которое можно видеть, если соединить его с пирожным «мадлен» или с колокольнями, или с этой пяткой. Пруст все время говорил, что к видимому миру нужно присоединить мир желаний, чтобы понять что-то [359]. Вот мы смотрим на мир, мы хотим его понять – мы можем его понять, если мы присоединяем к видимому невидимый мир желаний. Но мы должны понять, что в этой психологии слово «желание» не обозначает рассудочное, ментальное, какое-то гомункулусное состояние в нашей пустой голове. Слово «желание» всегда указует на желающие тела, на тела желания. А они, повторяю, есть продукт нашей истории. Так вот, во всех этих симметричных или корреспондирующих местах романа к такому роду явлений применяется слово «вазы», «замкнутые вазы». Очень выразительное слово. Запечатанные вазы. Потому что для всякого человека, которому читались сказки, слово «вазы» связано, конечно, с духом, который можно выпустить из вазы. То есть – с какими-то таинственными вещами, которые в вазе заключены. Запечатаны. Так ведь? Джин из вазы выходит. И это не случайный выбор у Пруста, потому что он имеет в виду именно такого рода запечатанность. Например: «Час этот был не час, а запечатанная ваза, содержащая запахи, звуки, климаты» [360]. И каждый раз запечатанность вазы (или термин «ваза») фигурирует тогда, когда нам нужно отличить подлинное переживание, которое среди прочих своих свойств обладает свойством обязательно иметь телесного носителя, такого, который не есть наблюдаемые нами тела, – каждый раз в контексте отличения подлинного впечатления от того впечатления, которое мы волепроизвольно пытаемся себе представить. Есть разница между впечатлениями, связанными с такого рода телами желания, и чем-то – какой-то призрак в нашей голове, картину которого мы хотим волепроизвольно себе составить или представить себе. Вот видите, настолько этот пункт фундаментален и необычен для психологии, что я даже затрудняюсь терминологически пояснить вам эту разницу между ментальной картинкой чего-то и самим этим «чем-то», что не есть вещь, что есть тоже представление, но не ментальное. И вот Пруст пишет: «…я слишком хорошо понимал, что ощущение неровных плит, жесткость салфетки, вкус „мадлен“, то, что они пробудили во мне, не имело ничего общего с тем, что я с помощью единообразной памяти пытался вспомнить о Венеции, Бальбеке, Комбре; и я понимал, что жизнь можно оценивать как посредственную, хотя моментами она и представлялась такой прекрасной, потому что в первом случае мы ее взвешиваем и обесцениваем на основе чего-то совсем другого, чем она сама, на основе образов, ничего от нее не сохранивших…», – различием между каждым из действительных впечатлений, расхождение которых и объясняет, почему единообразной краской нельзя нарисовать что-нибудь в жизни подобное; единообразной памятью нельзя воссоздать картину памяти, хотя бы потому, что предметы памяти заключены в вазах, а единообразная память, выступающая как средство, безразличное к достижению цели, не может ухватить различия ваз, то есть различия того, что в вазах заключено. «Это различие было, по всей вероятности, обусловлено тем, что малейшее слово, сказанное нами в тот или иной момент нашей жизни, самый незначительный жест, сделанный нами, был окружен и нес на себе отражение вещей, которые логически к нему не имели отношения, были отделены от него умом, которому нечего было делать с ними в целях рассуждения…». Я на секунду прерву себя: пример, который я приводил, говоря о пятке как органе желания, – случилось сексуальное переживание, но оно окружено – как жест, как побуждение – вещами, не имеющими никакого к нему отношения. И дело в том, что как раз в эти вещи оно и может уйти, пока не понято и не освоено. И скорость ухождения в окружающие вещи больше, чем скорость понимания. Пока мы поймем, что с нами происходит, идет вот такая укладка событий, состояний и переживаний в вещах, не имеющих, с точки зрения ума, никакой логической связи с нашими состояниями. И ум не мог бы воспользоваться этими вещами для рассуждения. (Вот вы наблюдаете ребенка, рассуждаете о сексуальном желании, и для нужд этого рассуждения нет никакой необходимости обращаться к пятке. Ну, какое она с точки зрения ума и логики может иметь отношение к происходящему? Никакого. Но дело в том, что она никакого отношения не имеет к происходящему и в уме самого ребенка тоже. Но мир, повторяю, не ждет, пока смыслы развернутся в уме ребенка.)
358
См.: Sw. – p. 404; Fug. – p. 488; Pr. – p. 100.
359
T.R. – p. 876.
360
См.: T.R. – p. 889.