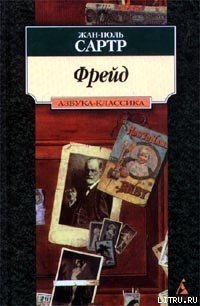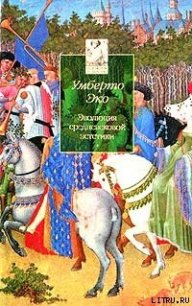Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Если распределить три языка этого ордена по местностям, то, очевидно, орденские владения французского языка будут находиться в Саксонии и орденская книга — это «Библиотека изящных наук»; британский, или экономический, язык крупнейшими имениями владеет в Бранденбурге (в средней провинции), и кадастр его — «Всеобщая немецкая библиотека». Поэтический язык владел сначала только маленьким Веймаром, но теперь заметно распространил свои завоевания на север и на юг, на что мне хотелось бы обратить внимание двух других языков {2}.
Мы должны допросить сначала эту бонну французской литературы в самой Германии. Французская литература — не просто подруга игр и компаньонка большого света; как то обычно бывает — она на деле побочная дочь света; вот почему они всегда верны и всегда обязаны друг другу. Высший свет — это дух общества, возведенный в самую высокую степень. Его университеты — это двор, который тем более должен развить и утончить светскую жизнь общества, — она для него не отдохновение, а цель и беспрестанная жизнь, — что ему надлежит разрешать как бы величайшие противоречия между властью и повиновением, между уважением к себе и к другим, создавая прекрасную видимость общественного веселья и дружеского равновесия. Дары, что приносит французская поэзия, исчислимы, — это удовлетворенные требования высшей, как бы поэтической жизни светского кавалера в обществе. Такая поэтическая жизнь изгоняет, как и такое поэтическое искусство, все, что не выравнивает и не уравновешивает, — изгоняет постоянную и обостренную серьезность, высшую шутку (юмор), изгоняет трагическое или любое иное настроение, если оно преобладает, — она требует остроумия, самого скорого и спорого посредника между рассудком и насмешкой, требует остроумия как средины между сатирой и юмором, — а в остальном мгновенных прелестей, философских же систем только в виде важных суждений, которые не нуждаются в особом расположении души, поэтому прежде всего являются эмпирическими, как у Локка, поскольку такие суждения не привязывают бесконечную цепь сразу к высотам и глубинам, — требует нежных Расиновых чувств, не сильных, скорее симпатетических (сострадательных), чем автопатетических (собственных страданий), — кроме этого повсюду легкого перескакивания через свои и чужие шипы, наконец, вежливой всеобщности и отрешенности. Ибо дух высшего общества забывает о себе и об «я», тут не говорят «я», а говорят «люди», как у Паскаля — не «я», а «on»; французская игра corbillon, когда все время нужно придумывать рифмы на on, — это истинная игра, она объемлет все круги и кружки мира и света и все кружева галльской прозы, на вершинах которой повелевает пустопорожнее полое «on» {1}. Ибо чем больше вежливого тона и воспитанности, тем больше всеобщности, не любящей договаривать до конца, скорее, поэтической и приятной, потому что здесь тонкое розовое масло отделяется от листьев и шипов, — так же поступают и сами высшие сословия. Ибо к трону и к его двору-ореолу поднимается лишь все самое невесомое и всеобщее; печи, обогревающие дворцы, скрыты, а сами скрывают в себе дрова и угли, лишь суммы сумм появляются близ подписи монарха, лишь сводные таблицы испаряются на верха; внизу же располагается ползающий на брюхе тяжеловесный и воплощенный мир индивидуального — придворных поваров, писарей, ремесленников...
Не является ли прежде всего французская, или парижская, поэзия тончайшим идеальным отпечатком всего этого общества благодаря своему правильному, отвлеченному, выспреннему языку и благодаря всему, чего в ней нет, — чувственной наглядности, любви к низшим сословиям и знания их, свободы и пламенного жара? Продолжим: женщины, как и французы, — светские люди по рождению, им нравится парижская поэзия, их вкусу она верна. Коль скоро общество с его компанейским духом — цель, и не цель чувств, знаний, занятий, а цель самого человека, так мужчины и женщины уже не могут избегать друг друга, как масло и вода; женщины — от рождения люди света, они превращают мужчину в компанейскую персону, как только он начинает искать их благосклонности. Ничто так не развило светский тон парижского общества, как всеобщее прелюбодеяние, — оно всякого парижского «супруга» на пороге любой гостиной возвращало к идеальной поре любви, когда он вяло ухаживал за женским сердцем. У нас порхают юноши, у них — мужья и жены и любовницы и вдовы — все вперемежку — какая прекрасная всеобщая компания!.. И это наделяет их поэзию женским характером — именно остроумием, этим женским способом делать логический вывод.
Поэтому мне непонятно, каким образом Боссю мог утверждать в своем traite об эпической поэме, что зима — неподходящее время года для эпоса и ночь — неподходящее время дня для трагедии, — как парижанин, он должен был знать, что город наполняется людьми зимой и оживает ночью.
Еще двумя эффектами и бликами самого высшего света характеризуется поэзия Парижа, равно как Версаля, Сен-Клу и Фонтенбло. Одно — материалистическая пневматофобия, или духобоязнь. Она не столько пропаганда (садовница), сколько пропагата (саженец) окаменевшей жизни света. Вера со своим сонмом духов живет в келье, а не на рынке, — меж людьми боги гибнут. Неверие — порождение не столько времени, сколько места, оно с давних пор жило при дворах, начиная со дворов греческих, римских, византийских и вплоть до папских и галльских, жило в больших городах. Бывают мысли, что уничтожают свет — не только «весь свет», но и весь белый свет; нет ничего менее светского, чем такая мысль. Великана или бессмертного нельзя допустить к столу; нет ничего, что так возмутило бы придворное компанейское равенство, как бог и тем более Бог, ибо пострадало бы подобие его — монарх. По той же причине, по которой изгоняются из гостиных предметы громоздкие, циклопические, — от них начинаются если не религиозные волнения, то иррелигиозные, — через всю французскую поэзию проходит красота конечного и удобообозримого; ее небо, как балдахин парадной постели и парадного трона, — на облаках, не на звездах. Душевная чахотка заразила и немцев, вторящих французам, — Вецеля, Антона Валля; правда, вторящий им Дик хорошо перевел, живя на Плейссе, теофилантропов {2}, но, боже, уж лучше мне отречься от тебя, нежели ходить в мертвую церковь вместе с парижскими теофилантропами и в ней хоронить живое бьющееся сердце!
Я нередко воображал себе, какое впечатление произведет — если читать его придворному обществу вслух за обедом — Шекспир с его низкими комическими сословиями, с его возвышенными трагическими и, наконец, с жаром гениального сердца; и очень ярко и очень смешно представил себе, какое действие он произведет, сравнив его для себя с тремя степенями пыток, из которых первая степень заключается именно в сдавливании — веревками и тисками, вторая — в растягивании — на дыбе, третья — в огне. Как замечательно, что и здесь вновь повторяется прежняя тройственность — эта столь часто повторяющаяся троичность степеней сравнения (tertium comparationum tertia comparationum) — совсем как в философии Шеллинга.
Вторая дщерь светской жизни, которую я обещал представить вам, разрешает крепкие загадки галльской трагедии.
Уже в четвертом томе «Титана» лектор однажды {3} заметил, что французы и женщины похожи друг на друга, потому что те и другие — люди светские от рождения, — следовательно, о чем можно судить и по временам революции, они бывают либо несказанно нежны и кротки, либо несказанно жестоки — и, далее, трагедия французов равным образом бывает не только ужасно бессердечной, но и бессердечно ужасной или чудовищно жестокой. И почему бы? Все — от духа утонченной светской жизни, которая кует и шлифует кинжал Мельпомены из самого твердого льда на самом жестоком морозе, оттачивая его так, что он может наносить раны, а затем тает в теле и, замораживая раны, убивает. Впереди церковной процессии носят крест и распятого, но поистине носят его позади процессии придворной и светской, и нет для простой бесхитростной души ничего более чудовищного, чем эта редкостная аристократическая и далеко не лицемерная смесь величайшей деликатности нравов и нежной любви, легко ранимого чувства чести, с одной стороны, и французской медленно губящей жестокости и высокомерных временных отмен всякой чести и честности — с другой. Тот же министр, который поднимает на воздух целые страны, стреляя по ним из пушек, будет переживать, когда его возлюбленная или какой-нибудь Расин уколются иголкой, и в эпоху террора на сцене выводили кротчайшие чувства. Ибо для министра народ то же, что для банкира крупная сумма, простая абстракция, алгебраическая величина, с которой он совершает действия в своих расчетах, и беречь он может только то, что близко к телу, — так банкир, случается, экономит на «мелочи».