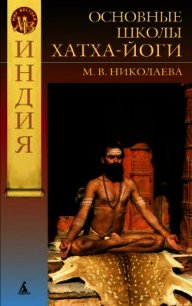Категория «привходящего». Том 2 - Николаева Мария Владимировна (книга регистрации .TXT) 📗
Эсхатологическая ориентация русской мысли сохраняется в социальных исканиях С.Л. Франка, углубляющих исконно русский вопрос о «народе-богоносце» или подневольности мессианства. «Русский онтологизм выражает не примат «реальности» над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше «действование» в нем». [2]
Бог в собственном смысле слова, не суженном религиозными или материалистическими догматами, есть первый предмет философии, поскольку она должна быть идеализмом, не признающим конечные вещи истинно сущим. Социальные отношения также балансируют на неосознанно принятом в качестве предпосылки определенном соотношении реального и идеального. «Наша» воля оказывается дальнейшей конкретизацией их дисгармонии, тогда как воля Бога есть первый предмет социальной философии. «Нравственное сознание человека есть практическая сторона сознания его богочеловеческого существа». [3]
Выделим три отрасли научного подхода к обществу: формальная социология, социальная философия и философская антропология. Соответственно, возьмем за ориентиры в указанных областях трех представителей: Г. Зиммеля, С.Л. Франка и М. Бубера. При всем различии их концепций, все они исходят из того, что обособляют «Мы» общения как форму исконного отношения «Я-Ты» (из которого впоследствии развивается «Мы» общества) – от «мы» познания как формы вторичной и второстепенной связи «я-оно» (чисто ментального объединения, ставшего по общему мнению тупиковым и непродуктивным).
Из истории философии от Декарта до Гегеля известно, что «мы» познания тождественно самодостаточному «я», в то время как нововводимое «Мы» общения не бывает тождественно никакому «я» и никогда не будет редуцировано к структуре просто рефлектирующего «я», хотя бы это было само «Я» абсолютного познания, ибо таковое немыслимо вне соборности всего непостижимого в существе Бога. Остановимся на концепции «Мы» С.Л. Франка.
Кант судит по воле, формально совпадающей с чистым разумом и определяющей сферы нравственности и религии вне самоочевидности бытия. Это положение привело к тому, что борьба против кантианства стала постоянной темой русской философской мысли. [4] Свое противостояние классической философии Франк осуществляет в более глубоком и личном отношении, вступая в отрицательное общение по поводу познания человека, бывшее для Бубера всего лишь завещанием покойного Канта. Наиболее значим для него из всех снятых «мы» их первый «он» – Декарт.
Франк считает самодостоверность «cogito ergo sum» гносеологическим субъектом, не исчерпывающим живого личностного самосознания, и утверждает полную невозможность вывести представление о «Мы» общения в картезианской эгоцентрической системе. Однако он забывает о важности для мысли Декарта понятия Бога, первичного по отношению к «я» и отличного от него, – то есть другого «Я», милостивого к самому существованию всякого «я», а не единственно к развитию его разума, – что представляет собой проект «Мы с Богом», определяющий возможность снисходительности и к «не-я», восполняющего «я» до «мы».
Теологический аргумент от благодати дополняется философской аппеляцией к закону тождества. Отношение к другому происходитизотрицания господства. «Я» и Бог суть противоречие, а не противоположность – они не допускают промежуточного субъекта, разве только объекты. Осознав, что он не один в мире, Декарт переходит к идее не просто другого «я», или «он», но Бога, то есть «Ты»: «Одна только воля, которую я ощущаю в себе, настолько велика, что … она-то и показывает мне, что я ношу в себе образ и подобие Бога». [5] «Поэтому мы … и полагаем, что другие, имея свободную волю, могут подобно нам хорошо ею воспользоваться». [6]
Декарт признает, что собственное «я» есть для познания самое легкое, а представление о другом «я» требует определенного волевого усилия. Вывод о наличии других людей допустим именно через понятие воли. Однако для Франка отличие социальной философии от практической отчетливее всего выражается нововведением понятия реальной воли в противопоставлении волевому идеалу, установленному философией права: «Общественный идеал для своего оправдания требует не только того, чтобы он был верным, но и того, чтобы он был осуществимым. Не отвлеченный нравственный идеал, как таковой, а конкретная реальная нравственная воля человека есть подлинное содержание нравственной жизни». [3]
Философия права была построена Гегелем как последовательнаясистема волеопределения, где воля представала перед судом разума как объект и субъект их рефлективного отношения. Франк делает волю содержанием осмысленной жизни, не давая ей самостоятельной силы в качестве идеала. Гегель отстаивает право философии на существование, или способность мышления иметь дело с конкретными нравственными реалиями и в качестве воли перемещать себя в наличное бытие: «Философия, именно потому, что она есть проникновение в разумное, есть постижение наличного и действительного, а не выступление потустороннего начала». [7]
Конечно, Гегель имеет в виду волевое постижение, а не волевое общение, но ведь и Франк говорит о социальной философии, а не о социальном действии, – во всяком случае его общественная позиция состоит в выражении некоторой мысли, сконцентрированной в памятовании о том, что исполняющий волю Божию пребывает вовек, [8] – то есть обладает идеальным существованием. Равно как и творческая судьба Бубера состоялась лишь постольку, поскольку замирание в молчании перед «Ты» окончилось вместе с произнесением «Ты» и «не оно», так что «оно» сразу оказалось в подчинении у боготворимого «Ты».
Создается впечатление, что по степени реализма Франк предлагает перейти к жанру философской «панорамы», как это делают ради расширения возможностей живописи. Но добавление, что «попытка парализовать индивидуальную волю, приводя к потере человеком своего существа, как образа Божьего, тем самым ведет к разложению и гибели общества», [3] – совпадает по сути с гегелевским определением государства как шествия Бога в мире, где государственная воля не просто занимает место образа Божьего в существе человека, а находится в органической связи с волей индивидуальной, вырастая из нее и оставаясь в соотношении с ней.
Под личным решением оба понимают свободное принятие или непринятие решения общественного, ибо и Франк останавливается перед спонтанностью богообщения на грани юродства или хотя бы утопии. Так, он и не задумывается, подобно Н.Ф. Федорову (хотя исследователи его работ отмечали насильнический утилитаризм трудового сознания, для которого личность подчинена проекту), [9] о воскрешении в своих собственных телах тех, чья философия кажется ему отжившей и не заслуживающей обращения на «Ты» – просто в силу предполагаемой вторичности и еще более предполагаемой безответности такого обращения.
Однако добросовестность исследования требует сделать из всех недоумений по поводу радикального реализма Франка тот вывод, что наше сравнение социальной и практической философии поверхностно. Сосредоточим внимание на более общем отношении к миру. «Образ мира в новозаветном его понятии имеет ближайшим образом отрицательный смысл, определенный наличием в мире универсального факта греха. Но образ мира, будучи творением Божиим и – производно, через принадлежность к нему человека – образом и подобием Божиим, есть совокупность вечных, бого-установленных устоев бытия». [10]
Онтологическая позиция предполагает удержание того и другого образа мира в их единстве именно в силу поддержания субъективного тождества представляющего и представляемого – завершенности рефлексии как целостного процесса. Онтологизм не может быть «русским» или «нерусским», – на данном уровне абстрагирования снимаются все подобные определенности, тогда и Россия находится не в отношении к миру, а в единстве с ним. Иначе, если рефлексия отсутствует, возникает та или иная относительность: Россия представляется либо «богоизбранной», либо «забытой Богом», а мир без России – пустыней или плеромой.
Размыванию этой границы способствовала эмиграция русской интеллегенции, представителем которой был и Франк. Проблема существования мира без России являлась насущной; условием русского возрождения казалось создание национальной власти в России. [11] Опыт социалистического интернационализма не стал этапом онтологизации предпосылок в обыденном сознании. Его можно определить как случай рассогласования в воле к созданию нового мира между волей к взаимопредставлению и взаимодействию. Отсутствие «нашей» воли в центре структуры власти, регламентирующей общую волю, связано с недостатком идеализма. [12]