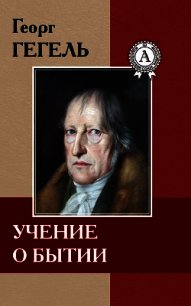Народная религия и христианство - Гегель Георг Вильгельм Фридрих (электронная книга txt) 📗
3
Поскольку между жизнью и догматом существует преграда (или только разрыв, большая дистанция, отделяющая их друг от друга), то возникает подозрение, будто форма религии имеет изъян: она или обращает слишком много внимания на пустословие, или предъявляет людям слишком большие, ханжеские требования – вопреки их естественным потребностям, стремлениям добропорядочной чувственности – tes sophrosynes, – или же одновременно имеет место и то и другое. Если люди перед лицом религии должны стыдиться радостей, веселья, если нужно с публичного праздника, тая смех, прокрадываться в храм, то форма религии имеет слишком мрачную внешнюю сторону, чтобы иметь право с уверенностью сказать себе, что ради ее требований люди отдадут радости жизни.
Она должна радушно обходиться со всеми ощущениями жизни, не желать вторгаться в них, но быть всюду желанной. Если религия должна уметь воздействовать на народ, то она должна радушно сопровождать его во всех его предприятиях и серьезных жизненных делах, а также быть рядом с ним в его праздниках и радостях, но не так, чтобы выглядеть навязчивой пли стать обременительной наставницей, а чтобы быть предводительницей, побудительницей. Народные празднества у греков, вероятно, все были религиозными празднествами, посвященными какому-нибудь богу пли имеющему заслуги перед их страной и вследствие этого обожествленному человеку. Все, даже распутство вакханок, было посвящено какому-нибудь богу, даже у их театра было религиозное происхождение, о котором они в своем дальнейшем развитии никогда не забывали. Так, Агафон не забыл богов, когда получил награду за свою трагедию, – на другой день он устроил в честь богов праздник ((Платон), «Пир»).
Народная религия рождает и питает высокий образ мыслей – она идет рука об руку со свободой.
Наша религия хочет воспитать людей гражданами неба, взор которых всегда устремлен ввысь, и поэтому человеческие чувства делаются им чуждыми. Во время нашего наиболее значительного публичного праздника люди приближаются к вкушению святого дара в цветах траура с опущенным взором – во время праздника, который должен быть праздником всеобщего братания, многие боятся чаши из-за венерических болезней, которыми могут заразить их причастившиеся раньше, и так как душа человека не поддерживается бережно в святых чувствах, то он должен во время акта жертвоприношения доставать (деньги) из кармана и класть на тарелку, – тогда как греки приближаются к алтарям своих богов, увенчанные милостивыми дарами природы, цветами, облаченные в краски радости, распространяя на своих открытых, приглашающих к веселью и любви лицах довольство.
Дух народа, его история, религия, степень политической свободы не могут рассматриваться отдельно ни по их влиянию друг на друга, ни по их внутреннему существу, они связаны в один узел, подобно тому как ни один из трех сослуживцев не может делать ничего без другого, но каждый берет что-то у другого. Формировать моральность отдельного человека – это дело частной религии, родителей, собственных усилий и обстоятельств, формировать же дух народа – дело отчасти народной религии, отчасти политических условий.
Ах, из далеких дней прошлого навстречу душе, которая способна чувствовать человеческую красоту, величие в великом, светит некий образ – образ гения народов, сына счастья, свободы, взлелеянного прекрасной фантазией. Прочные оковы потребностей тоже приковывали его к матери-земле, но он так обработал, усовершенствовал, украсил их благодаря своему чувству, своей фантазии, увил розами с помощью граций, что чувствует себя в этих оковах как в своем творении, как в части самого себя. Его слуги – радость, веселость, приветливость; его душа наполнена сознанием своей силы и своей свободы, его самые близкие друзья – дружба и любовь, не лесной фавн, но тонко чувствующий, душевный, украшенный всеми прелестями сердца и приятными мечтами Амур.
От своего отца, любимца счастья и сына силы, получил он в наследство доверие к своему счастью и гордость за свои дела. Его снисходительная мать, не крикливая и не суровая женщина, отдала своего сына на воспитание природе, не спеленала его нежные члены тесными пеленками и, как добрая мать, скорее поощряла настроения, затеи своего любимца, нежели ограничивала их. В соответствии с этим кормилица должна была воспитывать его, делать из него юношу, она не запугивала его ни розгой, ни мрачными привидениями, не прельщала его кисло-сладким пряником мистики, от которого портится желудок, не пыталась удержать его в помочах слов, которые должны были бы оставить его в вечном несовершеннолетии, – наоборот, она поила его чистым, здоровым молоком чистых чувств и прекрасной, свободной фантазии, она украшала своими цветами непроницаемое покрывало, которое скрывает божество от наших взоров, а за ним поселила с помощью волшебства живые образы, на которые он перенес великие идеи своего собственного сердца, исполненного высоких и прекрасных чувств. Подобно тому как кормилица у греков была другом дома и оставалась другом своего воспитанника на всю жизнь, так же оставалась она его подругой, которой он, неиспорченный, приносит свою вольную благодарность, свою свободную любовь; он делит с ней, благосклонной подругой, свою радость, свою игру, а она не мешает ему в его радости – она сохраняет при этом свое достоинство, и его собственная совесть карает его за пренебрежительное отношение к ней – она сохраняет навсегда свою власть, так как последняя опирается на любовь, на благодарность, на благороднейшие чувства своего питомца; она украшает себя, повинуется настроению его фантазии, но она и учит его почитать железную необходимость, учит его безропотно следовать этой неотвратимой судьбе.
Мы знаем этого гения только понаслышке, только некоторые черты его дозволено нам созерцать с любовью и удивлением в сохранившихся копиях его образа – черты, которые пробуждают лишь болезненную тоску по оригиналу. Это прекрасный юноша, которого мы тоже любим в его беззаботности, окруженный целой свитой граций, – с ними он впитывал из каждого цветка целительное дыхание природы, душу, которую они вдохнули, с ними он оставил землю.
4
Помимо устного поучения, у которого всегда лишь очень ограниченная сфера воздействия, которое простирается лишь на тех, кого природа прежде всего связала с нами, существует единственный вид воздействия в широких масштабах – воздействие через книги; в этом случае наставник встает на незримую кафедру перед всей публикой и, поскольку он невидим, решается воссоздать здесь перед слушателями самую кричащую картину их моральной испорченности и так беспощадно обходится с публикой, говорит в таком тоне, какой он в ином случае едва ли стал бы применять по отношению к самому презренному человеку; не часто увидишь, чтобы моралист, если это совершалось не ради службы, хотя бы половину того, что он говорит в лицо высокочтимой публике в целом (не провоцируемый никем, а только влекомый внутренним чувством призвания улучшать людей), осмелился когда-нибудь высказать определенному кругу людей, из которого он (если его картины не являются, как бывает, чистой болтовней, а его средство против этого – простым теоретическим шарлатанством) абстрагировал для этого определенные черты. Поскольку способ поучения должен приноравливаться к тому духу, тону, благодаря которому оно может быть принято народом, то мы находим здесь и различные манеры. Сократ, который жил в республиканском государстве, где каждый гражданин свободно разговаривал с другим, а изысканная вежливость в обращении была в ходу даже у толпы, в ее почти самых нижних слоях, наставлял людей в беседе самым непринужденным образом; без дидактического тона, без всякого намека на желание поучать приступал он к обычной беседе и незаметнейшим путем подводил к уроку, который он давал как бы сам себе и который не мог бы показаться навязчивым даже Диотиме. Иудеи же, напротив, были приучены своими предками, своими национальными поэтами, к более грубому обращению; уже в синагогах уши их были приучены к моральным проповедям и прямому тону поучения, а благодаря книжникам и фарисеям они были привычны к более грубому способу ниспровержения противников в стычках и поэтому обращение к ним того, кто не был ни фарисеем, ни саддукеем, такое обращение, как «Вы, змеи и змеиное отродье», звучало не так резко, как звучало бы оно для ушей греков.