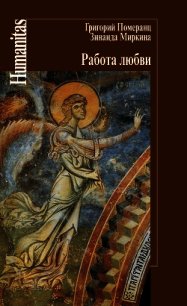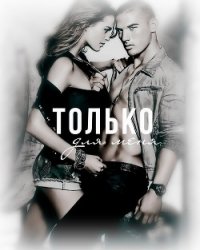Открытость бездне. Встречи с Достоевским - Померанц Григорий Соломонович (читать книги без регистрации TXT) 📗
Когда князь Мышкин говорит, что красота мир спасет, он не рассуждает, не мечтает. Это неопровержимый личный опыт. Разумеется, совершенно неубедительный для остальных, для тех, кто не умеет так смотреть. Но он в самой глубине своей болезни принял руку, протянутую с неба, и эта рука день за днем вытягивала его и наконец вытянула. Не к тому, что называется нормой, – а мимо, мимо, прямо к порогу ослепительного чувства полного бытия...
Мышкину дана вспышка совершенного Единства с Чем-то (я не знаю, с чем, но я пишу это с большой буквы). Вспышка, похожая на те, которые столько раз описывали мистики. Один раз что-то подобное испытал Паскаль в течение двух часов [115] и назвал одним словом: огонь. Но огонь блаженный, огонь любви, от которого не откажешься, скорее – от жизни, если их нельзя совместить. Эротические метафоры приходят здесь в голову почти всем, так же как религиозные метафоры – в любви мужчины и женщины, достигшей полной (божественной) меры. Суфии почитали святыми любовные стихи язычников узритов, и еврейские книжники включили в Писание призыв Соломона: «ибо сильна, как смерть, любовь; свирепа, как ад, ревность...»
Овладеть мистическим чувством так же трудно, как Ромео – не покончить с собой от любви к Джульетте, как Меджнуну не обезуметь. Даже еще трудней, потому что нет инстинкта, который приносит блаженный покой и сон. Перейти от мистической «влюбленности» к мистическому «супружеству» очень не многим удалось без помощи, без примера. Те, кто сумел, становились великими учителями. Мышкин так и не нашел в церкви такого учителя, такого помощника. Его опрокидывали нечаянные, неуправляемые вспышки внутреннего света, томила невозможность поделиться светом, соединиться в свете с другими людьми. Оба припадка, описанные в романе, – от чувства внезапно нахлынувшего и неразделенного света («Парфен, не верю!..»). Без всякой иконы, без традиции, без языка (потому что для высших мгновений нужен особый язык) Мышкин чувствует себя глубоко беспомощным, и он охотно пошел бы за старцем, который знал бы то, чего Мышкин не знал и что ему было нужно. Но Достоевский сам этого не знал и не мог изобразить (даже отвлекшись от соображений невероятности встречи: Мышкин сам достаточно исключителен). Мышкин – это предел Достоевского, предел увиденного изнутри. Зосима – уже отчасти за пределом и поэтому несколько бледен, больше программа, чем исполнение. Потому только, что Достоевский не смог? Или потому, что церковь не смогла бы, т. е. почти забыла глубины «безмолвия» и только изредка, от одного святого к другому, вспоминала их?
Так Мышкин, во всей своей незавершенности и слабости, оказался самым законченным образом святости и в душе Достоевского, и в его романах, и во всей культуре XIX и XX веков. Пусть нечаянные, пусть неуправляемые, пусть гибельные, но вспышки внутреннего света выжгли суету, и душа (если ее не мутили снаружи, если ее оставляли в покое) становилась прозрачной, и в ней отражался Бог, и в Боге оказалось место для каждого. Самое главное, оказывается, не в приобретении, не в том, что можно приобрести, а в потере, в «идиотской» потере того, что Ганя и другие более умные люди считают личностью, в потере чувства пропасти между собой и другими, в потере обособленности «я». Самое главное – великая пустота (духовная нищета), в которую может войти всё. И в этом зеркале равно отражается цветущее дерево, Аглая, Ипполит, Настасья Филипповна, генерал Иволгин, поручик Келлер... В опустошенной от суеты ума, в «идиотской» душе Бог принимает детей Своих, как евангельский отец – блудного сына...
Мышкин всего только литературный герой. Но не все ли равно, во что воплотился дух? В конце концов и от живого Мышкина осталось бы только слово, и, может быть, менее убедительное, чем слово Достоевского... Ради нескольких «идиотов» существуем, может быть, мы все... Со всем нашим умом, со всей нашей великой цивилизацией, покоряющей Луну и планеты.
У ирландского богатыря Кухулина было три недостатка: он был слишком молод, слишком храбр, слишком красив; и поэтому он обречен. Логика кельтского поэтического сознания кажется странной, неожиданной; но вот и в России говорят про детей, поразительно развитых нравственно: не жилец он на этом свете. Почему? Разве нравственное сознание непременно связано с тенью смерти? И откуда она, эта тень? От болезни? От какой-то другой внешней причины? Или, как в старину говорили: Богу нужны ангельские души? И он забирает их к себе? Или, как говорили еще раньше, – боги завидуют смертным?..
Такие объяснения давно не принимаются всерьез. Но, может быть, что-то серьезное за ними все-таки стоит? Может, есть какой-то тайный порядок, который невозможно вместить ни во что, кроме мифа? Может, в древних обычаях – приносить самого прекрасного человека в жертву богам – не только варварство и психопатология? А еще догадка, смутная и грубо осознанная, о таинственном законе бытия, по которому за общую вину платит не самый виновный, а самый чуткий?
Мышкин и есть такой самый чуткий. Самый чуткий – самый уязвимый. И невозможно не уязвить его. Слишком истончилась плоть, не в силах понести бремени, которое жизнь кладет на плечи. Бесполезно судить, что от чего: это горение духа – от болезни, обострившей чувства? Или болезнь – от горения духа, сжигающего ветхого человека?
Можно ли считать чуткость, отклоняющуюся от нормы, недостатком, виной? Виновен ли первый человек, родившийся без шерсти, в том, что он замерз? Всегда ли герой виновен в своей гибели? В чем смысл выражения «трагическая вина»? Какая вина у Дездемоны? У детей Эдуарда, убитых по приказу Ричарда III? Или трагически гибнут только Отелло, Глостер, Макбет, а Дездемона, принц и Банко гибнут, так сказать, заодно, за компанию?
Разумеется, можно подвести и Христа под классическую эстетику и сказать: Он исцелял в субботу. Он нарушил закон. Точка зрения Кайафы и Анны достойна уважения: они защищали закон, без буквального, слепого выполнения которого народ не мог бы сохраниться. Это так же серьезно, чем соображения Креонта, приказавшего казнить Антигону.
Но наше сочувствие только в теории делится между Креонтом и Антигоной. На самом деле простодушный зритель, не читавший ни Гегеля, ни Маркса или позабывший их, целиком на стороне сестры, схоронившей своего брата, врага народа, и красноречие Креонта не трогает его. Он готов сказать, как Белинский – магистру, защищавшему известное решение Николая I о Чаадаеве: нет, что бы вы ни сказали, я все равно не могу с вами согласиться. Мое сердце не вынесет, если я поставлю дух времени на один уровень с духом вечности. Тут не два времени столкнулись, тут время столкнулось с вечностью; и вечность абсолютно права, а время, восставшее на нее, абсолютно неправо. Вся его правота от какого-то луча вечности; она права, эта правота, против относительной, неполной правоты другого времени. Там, где вечность блеснула во всей своей полноте, времени больше нет...
С точки зрения классической эстетики Мышкин и Рогожин примерно одинаково виноваты. Один – страсть без жалости (я упрощаю немного, но это здесь необходимо) ; другой – жалость без страсти. То и другое не может спасти Настасью Филипповну; то и другое ведет к гибели. Всякая односторонность ведет к гибели. На каком-то уровне оно так и есть, и раньше я так и читал роман, но сейчас читаю его иначе и чувствую иначе; и все аргументы, основанные на прежнем чувстве, или видении, или на прежней жизни моего сердца, сразу потеряли свою убедительность. Мне хочется сказать, что Мышкин ни в чем не виновен.
Но Мышкин сам признает себя виновным. Он говорит Евгению Павловичу, что виноват, во всем виноват. Как это понять? Может быть, людская вина не делится на отдельные вины, она лежит на всех (все мы друг перед другом виноваты, сказал Зосима). И нельзя жить с людьми, не разделяя их общей вины. И мышкинское чувство виновности – такое же, как в разговоре с Келлером (когда князь признается, что и у него бывают двойные мысли) ? Или как у цадика, который сам стал каяться в грехах, которые увидел на лице корчмаря [116]?