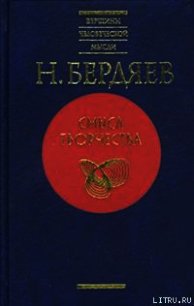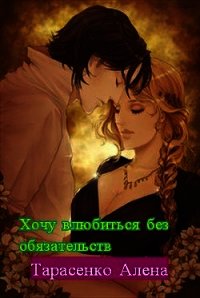Sub specie aeternitatis - Бердяев Николай Александрович (читать книги онлайн бесплатно полностью без .txt) 📗
Бедный Константин Леонтьев: его хуже чем не знают, самые образованные люди смешивают его со скучным классиком Леонтьевым, соредактором Каткова по «Русскому Вестнику»3'. Вот уж ирония судьбы! К. Леонтьев мечтал о политическом влиянии, хотел играть роль в качестве руководящего реакционного публициста, но в этом он не познал самого себя. Дирижером консервативной политики мог быть Катков, трезвый, позитивный, умело нащупывавший реальную почву под ногами, а не Леонтьев, романтик и мечтатель, проповедник изуверства во имя мистических целей, безумного реакционерства, граничащего с таинственным каким-то революционерством. К. Леонтьев не оставил приметного следа в истории русской мысли и русских духовных алканий. Для прогрессивного лагеря со всеми его фракциями он был абсолютно неприемлем и мог вызывать только отвращение и негодование, консерваторы же видели только поверхность его идей, схожую с катковщиной, и не понимали его мистической глубины, его безумной романтичности.
Но люди нашего склада должны задуматься над Леонтьевым, над печальной судьбой его. К. Леонтьев — страшный писатель, страшный для всего исторического христианства, страшный и соблазнительный для многих романтиков и мистиков* Этот одинокий, почти никому неизвестный русский человек во многом предвосхитил Ницше. Он уже приближался к бездне апокалиптических настроений, которыми сейчас больны многие из нас, и в христианстве он пытался открыть черты мрачного сатанизма, до того родного его больному духу. Леонтьев очень сложный писатель, глубоко противоречивый, и не следует каждое слово его понимать слишком просто и буквально.
В мрачной и аристократической душе Леонтьева горела эстетическая ненависть к демократии, к мещанской середине, к идеалам всеобщего благополучия.
Это была сильнейшая страсть его жизни, и она не сдерживалась никакими моральными преградами, так как он брезгливо отрицал всякую мораль и считал все дозволенным во имя высших мистических целей. Была у Леонтьева еще положительная страсть к красоте жизни, к таинственной ее прелести, быть может, была жажда полноты жизни. За своеобразным, дерзновенным и жестоким, притворно-холодным стилем его писаний чувствуется страстная, огненная натура, траги- чески-раздвоенная, пережившая тяжкий опыт гипнотической власти аскетического христианства. Человек сильных плотских страстей и жажды мощной жизни влечется иногда непостижимо, таинственно к полюсу противоположному, к красоте монашества. Эстетическая ненависть к демократии и мещанскому благополучию, к гедонистической культуре, и мистическое влечение к мрачному монашеству довели Леонтьева до романтической влюбленности в прошлые исторические эпохи, до мистического реакционерства. Он не выносил умеренности и середины и дошел до самого крайнего изуверства, сделался проповедником насилия, гнета, кнута и виселицы. Но в страшных и отвратительных словах Леонтьева чувствуется не реальный реакционный политик-катковец, а безумный мечтатель, несчастный романтик, затерянный и погибающий в чуждой для него эпохе.
Мы не придаем значения реалистическим уверениям Леонтьева. Человек этот полагал смысл всемирной истории в причудливом развитии немногих избранников во имя таинственных мистических целей. Только в этом аристократическом цветении он видел красу жизни и страдал безумно от сознания, что «либерально-эгалитарный прогресс» уносит человечество в противоположную сторону, к царству мещанства, вызывающего в нем брезгливость и отвращение эстета и аристократа, романтика и мистика. Как за соломинку схватился он за Россию, за славянство, видел тут последнее свое упование, почти умирающую надежду спасти дорогой для него смысл мировой жизни. На Европу надежды нет, она должна дойти до последних крайностей социализма и анархизма (Леонтьеву это даже нравилось, как и всякая крайность), но через Россию можно еще спасти мир, а для этого нужно заморозить ее, остановить либерально-эгалитарный «прогресс», хотя бы ценой величайших жертв, хотя бы самым мрачным насилием.
И К. Леонтьев ищет спасения в византизме. «Визан- тизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и Турцией. Под его знаменем, если мы будем верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всебла- женстве, о земной радикальной всепошлости» [146] . «Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий» [147] . Приведу еще ряд мест для общей характеристики Леонтьева.
«Какое дело честной, исторической, реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самых стонов человечества?» [148] . Леонтьев до страсти любил носить маску жестокости и надморальности.
«А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения... Все болит у древа жизни людской»... [149] «Это все лишь орудия смешения, — говорит он о современной передовой культуре, — это исполинская толчея, всех и все толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы; все это сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменателю. Приемы эгалитарного прогресса сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных» [150] . «Прогрессивные идеи грубы, просты и всякому доступны. Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достоянием немногих избранных умов. Люди высокого ума облагораживали их своими блестящими дарованиями; сами же идеи по сущности своей не только ошибочны, они, говорю я, грубы и противны. Благоденствие земное вздор и невозможность; царство равномерной и всеобщей человеческой правды на земле — вздор и даже обидная неправда, обида лучшим. Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедовала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях. Мученики за веру были при турках; при бельгийской конституции едва ли будут и преподобные» [151]. Таким режущим, дерзким и крайним стилем мало кто писал. За каждым словом клокочет болезненная ненависть к современной культуре, романтическая страсть к былому. «Свернувши круто с пути эмансипации общества и лиц, мы вступили на путь эмансипации мысли». «Пора положить предел развитию мещански-либерального прогресса! Кто в силах это сделать, тот будет прав и перед судом истории»" [152]. «Ошибки, и пороки, и глупость, и незнание — одним словом все, что считается худым, приносит плоды и способствует невольному достижению той или другой таинственной и не нами предназначенной цели» [153]. «Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!»... [154] «Глупо так слепо верить, как верит нынче большинство людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле, в мещанский и рабочий строй и безличный земной рай, освещенный электрическими солнцами и разговаривающий посредством телефонов от Камчатки до мыса Доброй Надежды ... Глупо и стыдно, даже людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую вещь, как счастье человечества, даже и приблизительно... Смешно, отвергая всякую положительную, ограничивающую нас мистическую ортодоксию, считая всякую подобную веру уделом наивности и отсталости, поклоняться ортодоксии прогресса, кумиру поступательного движения»... [155] «Смесь страха и любви — вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят... Смесь любви и страха в сердцах... Священный ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед некоторыми лицами; чувство искреннее, а не притворное, только для политики; благоговение, при виде даже одном, иных вещественных предметов»... [156] «Как я, русский человек, могу понять, скажите, что сапожнику повиноваться легче, чем жрецу или воину, жрецом благословенному?» [157] А вот слова, роднящие Леонтьева с Ницше, которого он не знал, а лишь предвосхищал: «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить целые века под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построили Кремль и его соборы, чтоб Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы... Ибо слава... ибо военная слава,., да, военная слава царства и народа, его искусство и поэзия — факты; это реальные явления действительной природы; это цели достижимые и, вместе с тем, высокие. А то безбожно-праведное и плоско-блаженное человечество, к которому вы исподволь и с разными современными ужимками хотите стремиться, такое человечество было бы гадко, если бы оно было возможно» [158],.. «Именно эстетику-то приличествует во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности за строгость; художнику прилично было быть либералом при господстве рабства; ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко libre penseur4" при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии» [159] ... Это страшно характерный для Леонтьева рецепт, он тут выдает себя, но, к сожалению, как мы увидим ниже, сам не всегда следовал эстетическому императиву. Приведу еще некоторые характерные места: «Культура с прежним злом дала миру такое обилие великих умов... Культура же новая, очищенная — в области мысли дает нам или бесспорно бездарных Бюхнеров, или Гартманов, даровитых, но отрицающих действительную благотворность прогресса» [160] ... «В трудные и опасные минуты исторической жизни общество всегда простирает руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям силы, к людям, повелевать умеющим, принуждать дерзающим!» [161] У Леонтьева был эстетический культ насилия, и само христианство, как я постараюсь показать, он умудрялся истолковывать как религию мрачного насилия, страха, а не любви. «Европейская мысль поклоняется человеку потому только, что он человек. Поклоняться она хочет не за то, что он герой или пророк, царь или гений. Нет, она поклоняется не такому особому и высокому развитию личности, а просто индивидуальности всякого человека и всякую личность желает сделать счастливой, равноправной, покойной, надменно-чистой и свободной в пределах известной морали. Это-то искание всечеловеческой равноправности и всечеловеческой правды, исходящей не от положительного вероисповедания, а от того, что философы зовут личной, автономной нравственностью, это-то и есть яд, самый тонкий и самый могучий из всех столь разнородных зараз, разлагающих постепенным действием своим все европейские общества» [162] . Это уже полное отрицание морали, столь характерное для Леонтьева. «И тут царство этой правды! И тут личность, личность, личность!.. И тут свобода!.. И тут европейский индивидуализм, столь убийственный для настоящей индивидуальности, т. е. для исключительного, обособленного, сильного и выразительного развития характеров! И тут автономическая, самоопределяющаяся мораль, гордая и в то же время мелкая, фарисейская «честность» [163]. «Для понимания поэзии нужна особого рода временная лень, не то веселая, не то тоскующая, а мы теперь стыдимся всякой, даже и самой поэтической лени» [164] . «Большая противу прежнего свобода привела личность только к большей бесцветности и ничтожеству... из которых она выходит лишь в те минуты, когда жизнь хоть сколько-нибудь возвращается к старому» [165] . «Социалисты везде ваш умеренный либерализм презирают... французские социалисты и вообще крайние радикалы презирают всех этих Эм. Жирарденов, Тьеров и Жюль Фавров... И они правы в своем презрении... И как бы не враждовали эти люди против настоящих охранителей или против форм и приемов охранения, им неблагоприятного, но все существенные стороны охранительных учений им самим понадобятся. Им нужен будет страх, нужна будет дисциплина; им понадобятся предания покорности, привычка к повиновению; народы, удачно экономическую жизнь свою пересоздавшие, но ничем на земле все-таки неудовлетворимые, воспылают тогда новым жаром к мистическим учениям» [166]... «С одной стороны, я уважаю барство; с другой, люблю наивность и даже грубость мужика. Граф Вронский или Онегин, с одной стороны, а солдат Каратаев — и кто?., ну, хоть бирюк Тургенева, для меня лучше того «среднего» мещанского типа, к которому прогресс теперь сводит мало-помалу всех и сверху и снизу, и маркиза и пастуха» [167] . «Для развития великих и сильных характеров необходимы великие общественные несправедливости, т. е. сословное давление, деспотизм, опасности, сильные страсти, предрассудки, суеверия, фанатизм и т. д., одним словом все то, против чего борется XIX век» [168] .